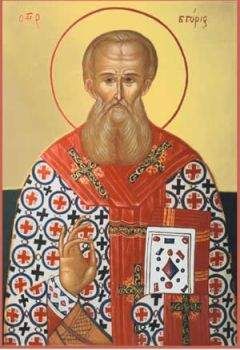Игорь Коломийцев - Тайны Великой Скифии. Записки исторического следопыта
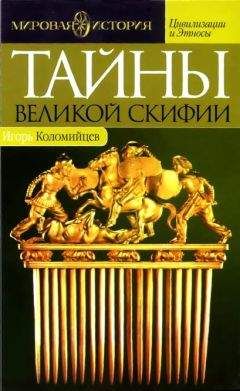
Помощь проекту
Тайны Великой Скифии. Записки исторического следопыта читать книгу онлайн
По данному вопросу существует несколько противоположных точек зрения. Первая теория, назовем ее для простоты экологической, утверждает, что народы заставляет пускаться в дальние странствия перемена привычных климатических условий. Погода на нашей планете подвержена существенным колебаниям. Периоды обледенения чередуются с глобальными потеплениями. Засушливые эпохи сменяются влажными. Соответственно пустыни превращаются в цветущие сады, солончаки становятся пресными водоемами. Ледники то подбираются к горам Кавказа, то отступают далеко на Север.
Ключевые преобразования ландшафта вершились не только миллионы лет назад, во времена динозавров, но и гораздо позже, на памяти ныне живущих народов. Достаточно сказать, что Азов (Меотида греков и римлян) за каких-нибудь два-три последних тысячелетия неоднократно менял свой статус: древние некогда считали его морем, иногда называли озером, порой именовали просто болотом. Арал, высохший буквально на наших глазах, — еще один яркий тому пример.
Когда наступал климатический оптимум и средняя температура градусов на десять превышала нынешнюю, очертания континента изменялись до неузнаваемости. Вся Западная Сибирь, возможно, обращалась дном Северного Ледовитого океана. Восточно-Европейская равнина становилась обширным озерным и болотистым краем, сходным видами с нынешней Карелией, где встречалось множество огромных водоемов размером с Ладожское озеро — остатки отступившего к полюсу ледника. Волга, как это ни покажется парадоксальным, скорее всего, впадала не в Каспий, а, соединяясь с Доном и Северским Донцом, несла свои воды через Азов в лоно Черного моря. Поэтому уровень Каспия снижался, Средняя Азия и Северный Кавказ сливались в единый и необъятный степной простор. На Севере от Уральского хребта оставалась лишь уходящая в заснеженные дали сурового океана гряда небольших островов, в то время как Южное Приуралье и Восточная Сибирь превращались в цветущую страну с благодатным климатом. И напротив, в периоды похолоданий практически вся Скандинавия, Европейская Россия, Сибирь и Дальний Восток оборачивались ледяной пустыней, непригодной для человеческого житья.
Наиболее чувствительной к перепадам температуры и влажности оказывалась, таким образом, та самая «колыбель народов» — степная и лесостепная полоса Евразии. Великая степь как бы дышала — то сокращалась, уступая территории тайге на Севере и пустыням — на Юге, то вновь раздвигала свои пределы. И на каждом «выдохе», по мнению ряда ученых, извергала из себя «лишних» кочевников, которым не хватило пастбищ и мест для кочевок. Они-то и затевали переселения. Отсюда — гунны, тюрки, татаро-монголы.
Экологическая версия, безусловно, величественна и красива, вот только ученые никак не могут пока наложить друг на друга два графика — ритм «дыханий» Великой степи и время начала многих известных нашествий решительно не совпадают.
Историк Лев Гумилев пытался, например, применить эту теорию к знаменитому натиску гуннов на страны Европы. Согласно его версии, агрессия кочевников пришлась на фазу потепления, а следовательно, расширения Степи. Гунны, по мнению исследователя, в тот период жили в Поволжье и в Предуралье, на землях холодных и лесистых. Тучные кубанские и донские черноземы занимали аланы — кочевое племя, ранее именовавшееся сарматами. Степь отступала на север, поэтому не гунны на алан напали, как сообщают нам о том древние римские историки, а все было как раз наоборот, считает отечественный классик. Уж затем, разгромив сарматских агрессоров, свирепые кочевники, видимо, им в отместку и учинили вселенский переполох{62}.
Пожалуй, это один из самых ярких примеров того, как историческую фактуру пробуют загнать в готовые рамки научной теории. Упрямые факты втискиваться в прокрустово ложе ученой концепции почему-то упорно не желают.
Лев Гумилев стал автором еще одной, тоже весьма талантливой идеи — теории этногенеза и обосновывал активность пускающегося в дальние походы этноса избытком пассионарности людей, его составляющих. Проще объяснить это так: подобно тому, как человек переживает рождение, детство, юность, зрелость и смерть, так и народы Земли проходят аналогичные стадии. В юную пору в среде народа наблюдается избыток людей деятельных, энергичных и не находящих выхода для приложения своих сил в условиях мирного времени — пассионариев. Они-то и влекут народы на войны и в завоевательные экспедиции. Потом народ «стареет», накапливает большое число инертных, трусливых и бездеятельных мужчин и женщин, этнос становится вялым (апассионарным), покоряется молодому и энергичному сопернику либо переживает второе рождение и начинает все сначала{58, 64, 65}.
Так, Киевская Русь была создана народом молодым, отсюда — дерзкие походы на греков, хазар, болгар, попытки взять штурмом Константинополь. В пору феодальной раздробленности в XIII веке она переживала старость и была потому безжалостно бита монголами, а затем, в условиях укрепляющейся Московии, обрела новую жизнь и вторую молодость, превратившись, по сути, в новый этнос{60}.
Опять же теория чудесна, жаль, что упрямые исторические факты не всегда ее готовы подтвердить. Однако и абсолютно игнорировать биологический фактор, видимо, не следует. На европейском Севере обитают пушистые грызуны — лемминги. С определенной цикличностью, первопричину которой биологам вычислить пока не удалось (может, вспышки на Солнце?), этот зверек неожиданно размножается в невиданном количестве и, собираясь в огромные стаи, в едином порыве устремляется в неизведанные края. В этом походе лемминги лишаются чувства страха и не подчиняются инстинкту самосохранения. Они тысячами тонут в реках, падают сплошной серой массой с крутых обрывов в море, становятся добычей диких зверей и хищных птиц.
Затем, пройдя сотни километров и потеряв большинство собратьев, лемминги вдруг разом освобождаются от наваждения и превращаются в обычных мирных и трусливых зверьков. Подобные гипервспышки с объединением в стаи и движением в одном направлении биологи наблюдают в мире пернатых и даже насекомых (например, у саранчи или божьей коровки).
В поведении больших человеческих масс в ходе переселения народов есть нечто от повадок северного зверька лемминга. Хотя чему тут удивляться? Люди наравне с другими животными — неотъемлемая часть биосферы Земли. Кто может поручиться, что на их скопища не действуют силы, приводящие в движение армады животных? Впрочем, сводить все только к неведомым науке биологическим законам или космическим излучениям («пассионарным толчкам» Гумилева) значило бы сознательно мистифицировать историю народов. Причиной многих известных нашествий были явления и события более прозаические и не столь загадочные.
В 30-е годы прошлого века в Центральной Европе оказались очень популярны идеи, объясняющие процессы этногенеза непрекращающейся тысячелетней расовой войной и естественной борьбой человеческих рас за жизненное пространство. На этой волне в Германии времен Адольфа Гитлера не жалели денег на исторические и археологические поиски останков белокожих голубоглазых блондинов — древних арийских этносов Евразии. История народов времени Великого переселения в руках националистически настроенных политиков превращалась в опаснейшее оружие, а факт, например, пребывания остготов на Дону и в Причерноморье — в обоснование территориальных претензий Германии на Украину, Крым, Дон и Кубань.
Крах фашистских режимов в Европе привел к всеобщему отторжению расовых теорий. При этом чуть ли не само слово «раса» применительно к историческим древностям стало признаком дурного научного тона. Вождь китайцев Мао Дзедун сказал как-то по схожему поводу: «Чтобы выпрямить кривую палку, ее надо выгнуть в другую сторону». Древняя история, лишенная антропологических изысканий, уподобилась предмету из этой китайской поговорки. И в таком неудобном полусогнутом состоянии пребывает вплоть до наших дней. Ибо если нацистские режимы были буквально помешаны на замерах роста ископаемых человеческих скелетов и определении формы древних черепов, то ныне подобные исследования — большая редкость. Исторически сложившиеся расы почти не изучаются, нет общепринятых методик, серьезных специалистов и фундаментальных трудов. Поэтому немудрено, что реальные антропологические процессы формирования многих народов остались вне поля зрения науки.
Между тем было бы глупо отрицать тот очевидный факт, что расовый вопрос играл существенную роль в процессе формирования этносов. Если чужаки слишком отличались своим внешним видом, их часто воспринимали враждебно, в качестве «уродов», подлежащих изгнанию, а то и истреблению. Напротив, с людьми близких антропологических типов наши предки охотнее смешивались, вступали в браки, образовывали союзы.