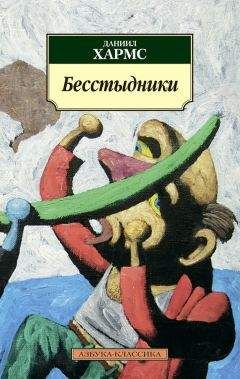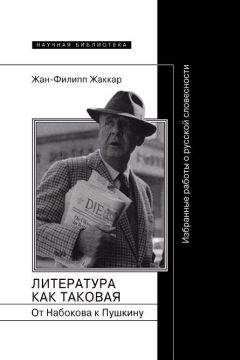Даниил Хармс и конец русского авангарда - Жан-Филипп Жаккар
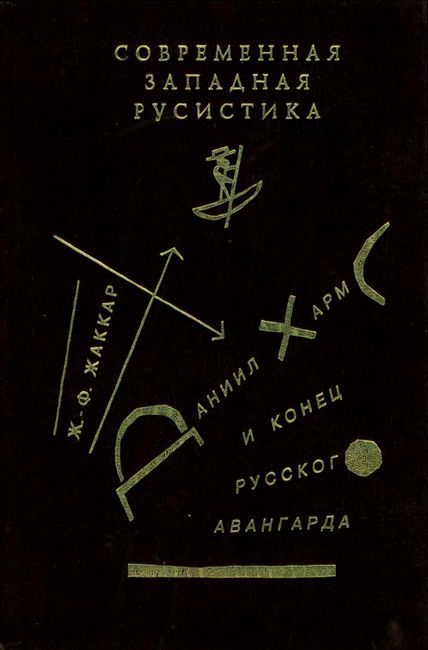
Помощь проекту
Даниил Хармс и конец русского авангарда читать книгу онлайн
Проклятье, меч и крест и кнут
читается:
Проклятье, меч и крест икнут[52].
Исходя из того же принципа, Крученых приводит целую серию запинающихся и икающих стихов из «Евгения Онегина»[53], а также примеры из других стихотворений:
Настрой же лиру по струнам
читается:
Настрой желиру пострунам[54].
Или еще:
Выйдь, коханечка, скорее,
которое читается:
Вытько хани чкаса рея[55].
Таким образом, уже не имеет никакого значения то, что звуковые единства, освобождаясь, образуют слова, известные или неизвестные. Напротив, это доказывает, что поэтический текст потенциально заключает в себе целое сплетение звуков — носителей автономной семантики.
Если классическая поэзия создавала такие, зачастую гротескные, игры слов невольно[56], футуристам удается, избежав смешного[57], обуздать сдвиг, направив его на поиски смысла. Вот почему Крученых предлагает обобщить прием как метод исследования.
Можно было бы долго продолжать исследовать различные записи этого незаурядного поэта[58]. Однако такой анализ неминуемо привел бы нас к тем выводам, которые мы можем сделать уже сейчас. Именно принцип отрицания, который слишком часто служит для характеристики творчества Крученых, является наибольшим заблуждением в оценке этого поэта, которого очень трудно академизировать. Напротив, как нам кажется, в его поэтике, так же как и в поэтике всех, кто хоть сколько-нибудь вписывается в его традиции, и в частности в поэтике Хармса, главенствует идея творческого созидания, поскольку, как мы уже процитировали выше: «Новая словесная форма создает новое содержание, а не наоборот»[59]. Вот в этом-то, как нам кажется, и заключается самая важная точка соприкосновения с Хармсом, и сформулировать ее можно так: благодаря ориентации на фонетику можно освободиться от железного ошейника значений, чтобы войти в область смысла.[60] У Хармса это принимает форму настоящей «битвы со смыслами»[61], — тема, к которой мы еще вернемся в конце главы.
Чтобы понять важность того влияния, которое мог иметь Крученых на Хармса, надо подчеркнуть, что у футуризма было сознание того факта, что он является родоначальником новой поэтики, которая должна будет неминуемо одержать победу над всеми остальными. Уже в «Ожирении роз» (1919)[62] он приходит к выводу, что заумь спасла искусство от той безысходности, в которой оно очутилось. Раньше были разум и безумие, сейчас — заумь. «Ранее было: разумное или безумное; мы даем третье — заумное, — творчески претворяющее и преодолевающее их. Заумное, берущее все творческие ценности у безумия (почему и слова почти сходны), кроме «его беспомощности — болезни. Заумь перехитрила...»[63].
К тому же есть еще и уверенность в том, что это школа, которая сосредоточила в себе все силы авангарда — от супрематизма[64] до формализма[65].
Все это позволит вскоре Крученых, быть может, несколько наивно провозгласить в декларации «О заумном языке в русской литературе» (1925) победу зауми как в прозе, так и в поэзии[66]. Анализируя произведения писателей, которых никак нельзя заподозрить в симпатиях к зауми (Лидия Сейфуллина, Исаак Бабель, Леонид Леонов, Всеволод Иванов и другие), он ощущает эту победу не только в проявлениях чистой зауми, но также и на всех уровнях поэтического творчества. В этой интересующей нас маленькой работе, опубликованной в 1925 году, поэт ставит на один уровень слова придуманные, неологизмы, звукоподражания, слова неизвестные и диалектизмы[67], признавая за этими «озаумленными» одну и ту же способность воздействовать как на слушателя[68], так и на смысл. «Слово как бы получает самостоятельную жизнь и весомость (слово как таковое) и даже диктует события, обусловливает сюжет»[69]. И далее: «Заумь здесь — обостренная фонетика — угадывание через звук, или выявление звуком нашего подсознательного»[70].
Такова ситуация 1925 года, когда Хармс входит в литературу, когда он пишет свои стихотворения, которые представляет для вступления в Союз поэтов. Заумь вместе со свойственными ей фактурой и сдвигом становится способом исследования: осуществляя углубленную работу над фонетикой, складывая звуки в немыслимые конфигурации (принципиальная заслуга Крученых, по мнению Сергея Третьякова[71]), становится возможным возвыситься над привычным произвольным делением языка на слова, также традиционно ассоциируемые с точными значениями, а следовательно, и над действительностью, раздробленной на отдельные части. Ясно, что ритм является одним из определяющих факторов в создании этого нового смыслового сплетения, что мы и проанализируем ниже на примере детской поэзии Хармса.
Педагогический сдвиг[72]
Именно после вечера 24 января 1928 года Самуил Маршак, вероятно, предложил обэриутам сотрудничать в Детгизе[73]. Он с прозорливостью гения сумел понять, что их поэтическое творчество, рожденное из зауми и сдвига, может отвечать прихотливым детским потребностям, связанным с игрой. В письме 1962 года Маршак поднимает вопрос о важности зауми, «которая составляет существенный элемент детских стихов, песен и т. д.»[74].
Однако сформулировать тезисы, существенно повлиявшие на поэзию для детей советского периода, смог Корней Чуковский в книге «Маленькие дети» (1928)[75], которая впоследствии, в сильно измененном виде, получила известность под названием «От двух до пяти». Здесь он отмечает, что дети часто придают большее значение звучанию и ритму, нежели смыслу читаемого. Значительная часть ремарок о детском творчестве, сделанных Чуковским, могла бы фигурировать в тезисах декларации Крученых[76]. Писатель, например, указывает на продуктивное использование суффиксов и уменьшительных народного происхождения («молоток-колоток») и на создание новых слов («часы часыкают»); он упоминает и о связи между словом и действием («действенность»), о «скрытой энергии», содержащейся в слове, о важности ритма и повторений, короче говоря, о всех тех приемах, с помощью которых появляется возможность преодолеть произвольный характер знака, выражаясь соссюровским термином. Он настаивает на том факте, что слово воспринимается ребенком как нечто конкретное, — характеристика, являющаяся краеугольным камнем обэриутской поэтики: «Слово часто имеет в сознании ребенка такой же конкретный характер, как и та вещь, которую оно обозначает. Оно, так сказать, отождествляется с вещью»[77].
Насилия, совершаемые над семантикой («нелепицы»), также во вкусе детей. Чуковский приводит те народные песенки