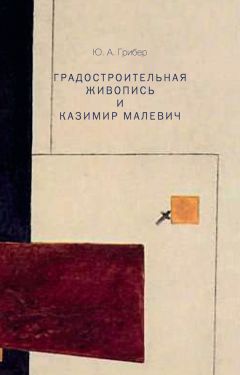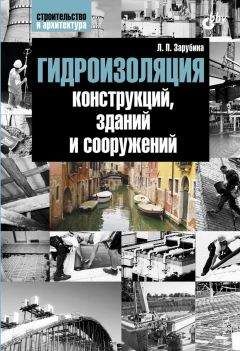Юлия Грибер - Цветовое поле города в истории европейской культуры
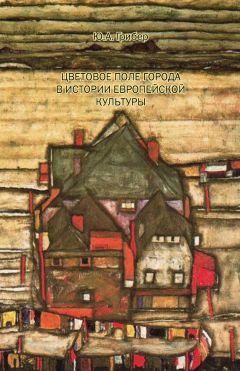
Помощь проекту
Цветовое поле города в истории европейской культуры читать книгу онлайн
Церковью была «постоянно вынуждена быть начеку, следя за тем, чтобы Бога не слишком уж переносили с неба на землю»[96], и воздвигая для этого преграды. Теперь, в отличие от Античности, глубоко в сознании народа лежало убеждение, что наслаждаться блаженством единения с Богом невозможно тогда и так часто, как он того пожелает: «это могут быть лишь весьма краткие, редкие, благословенные мгновения; и вот тогда, у подножия высот, оказывалась пребывавшая в неизменном ожидании Церковь со своей мудрой и экономной системой таинств. Именно Церковь мгновения соприкосновения духа с божественным началом сгустила и усилила в литургии до переживания вполне определенных моментов и придала форму и красочность таинствам»[97].
В жизни горожан, максимально проникнутой религией, благодаря церковным таинствам все важные события: рождение, брак, смерть – «достигали блеска мистерии», а менее значительные – «сопровождались неоднократными благословениями, церемониями, присловьями и обставлялись теми или иными обрядами»[98]. Важность и необходимость погружения в божественное, которое теперь считалось возможным только внутри церкви, поддерживалось «слоем стихийных верований». Например, считалось, что никто не может ослепнуть, никого не может постигнуть удар в тот день, в который он ходил к мессе; и пока длится месса, человек не стареет[99].
Поскольку одним из главных стремлений было передать скрытое за церковными стенами сверхъестественное и потустороннее, которые должны были внушать религиозный трепет и пугать, и которые зритель должен был живо воспринять, почувствовать и пережить, пространство внутри и вокруг значимых построек было театрализовано. Сделать это было несложно, поскольку простые люди жили в атмосфере чуда, считавшегося повседневной реальностью. Их вера в слово, изображения, символы была безгранична[100]. В средневековом городе «жизнь все еще сохраняла колорит сказки»[101]. Символизм был «живым дыханием средневековой мысли» и представлял собой «привычное стремление с помощью некоей вспомогательной линии продолжить всякую вещь, приближая ее к идее»[102].
Соединившись с наследием Античности и варварского мира, христианство выступило в качестве основы мировосприятия и мироощущения человека этой эпохи, создав ее единое идеолого-мировоззренческое поле, организованное христианским мифом об изначальной гармонии мира и умело
использовало средства, которые оказывали «ошеломляющее воздействие» на «неискушенные и невежественные умы»[103] того времени, затрагивая все «фибры души» средневекового горожанина. Звук колоколов «неизменно перекрывал шум беспокойной жизни; сколь бы он ни был разнообразным, он не смешивался ни с чем и возносил все преходящее в сферу порядка и ясности»[104]. Странствующие проповедники возбуждали народ своим красноречием. Ощутить осязаемое единство можно было в толпе частых процессий, шествий, собраний, представлений и ярмарок. Однако наиболее важной в средневековой культуре оказалась зрительная сторона. Мышление, зависимое от воплощения в образах, превращало все мыслимое в пластическое и изобразимое[105].
Незаменимыми иконические образы стали в изображении счастья. Передать счастье как-то по-другому оказывалось сложным и даже невозможным. Театрализованно описывать ужасы, внушать страх, трепет и пугать можно было и словами, когда же дело касалось житейских радостей и божественного величия «нарисовать картины счастья с той же яркостью, как жуткие и устрашающие, человеческий язык был не в состоянии. Чтобы еще более усугубить чрезмерность ужасов или бедствий, достаточно было всего лишь поглубже спуститься в низины собственного человеческого естества – тогда как для описания высшего блаженства нужно было, едва не вывихнув шею, устремлять свой взор к небу»[106].
Цветовые пространства хорошо подходили для этой цели. Они были сакральны, предельно условны, насыщены аллегориями и символами. Они служили важной частью «Библии в камне» (П. Сорокин)[107], воспринимались как своего рода божественный текст, который верующий мог легко прочитать. Для этого надо было только попасть внутрь храма, где цвет участвовал в создании особой атмосферы.
С ориентацией «вовнутрь» цветовых ритмов в архитектуре мировоззренчески была тесно связана особая, характерная для этой же эпохи и достигшая своего триумфа в XI–XII веках система изображения в живописи, получившая в противоположность прямой перспективе, разработанной в эпоху Возрождения, название «обратной». Специфическую черту мироощущения в обоих случаях составляли обращенность в себя, внутреннее созерцание, превосходство духа над телесным, «воспарение духа, пробуждение индивидуального чувства общения с Богом, сладостное мистическое переживание вечности в момент молитвенного озарения»[108].
М. Мерло-Понти[109], П. Флоренский[110], анализируя особенности обратной перспективы, единодушно подчеркивали, что в отличие от других моделей художественного пространства, она способна была передавать эмоции и тайну. Обратная перспектива производила чрезвычайно сильное впечатление, поскольку представляемое с ее помощью пространство разворачивалось в ширину и в глубину, вверх и вниз, преодолевая ограниченность «плотского» зрения. При изображении в обратной перспективе предметы расширялись при их удалении от зрителя, словно центр схода линий находился не на горизонте, а внутри самого зрителя. Земной мир понимался как отражение и подобие небесного, который нельзя было воспринять чувственным взором, он открывался, как верили, лишь внутреннему озарению[111]. Человек «не видел» то пространство, в котором жил, у него не было осознания опыта его восприятия, так же как и способа его изображения[112].
Миросозерцание эпохи, отразившееся в создании «островов» божественного сделало городское пространство Средневековья более упрощенным, мрачным и аскетичным по сравнению с Античностью, поскольку средневековое понимание цвета в городском пространстве замкнуло его внутри сакральных мест.
Внешние фасады рассматривались как оболочка, которая закрывала участвовавших в таинстве верующих. Стены ассоциировались со спасением, так как защищали внутреннее пространство от греха. А само цветовое пространство воспроизводило принципы мифологической модели острова, представляя собой «иной», священный мир.
Такое наполненное цветовыми островами, построенными по принципам обратной перспективы, пространство города оказалось очень сильным по своему воздействию. Оно было сложным, насыщенным и энергетичным. Здесь, внутри, народ мог укрыться от суетности, от «удушающих адских страхов» и «дикой жестокости»[113] реального злого и несправедливого мира, отречься от всех мирских проблем и «узреть незримое», погрузиться в «сияние счастья», в светлое наслаждение блаженством единения с Богом, кристаллизованное в прозрачной чистоте божественного света, где «трепетная вера этого времени постоянно жаждала непосредственно пребывать в красочных, сверкающих образах», а чудо осознавалось как таковое, поскольку происходило прямо перед глазами[114]. Здесь, внутри, погруженный в цвет, человек освобождался от хозяйственных забот и «обретал новый Рай, где, как и в изначальном, он мог вести беседы с нисходящим сюда Богом и, более того, где – в отличие от прежнего Рая – пребывал отныне Богочеловек»[115].