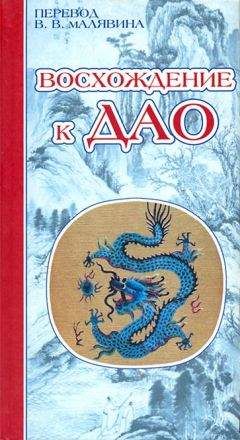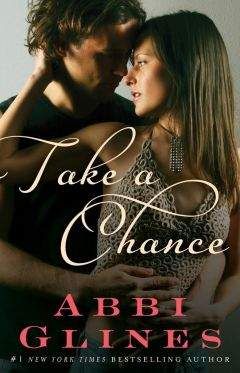Анна Степанова - «Закат Европы» Освальда Шпенглера и литературный процесс 1920–1930-х гг. Поэтология фаустовской культуры

Помощь проекту
«Закат Европы» Освальда Шпенглера и литературный процесс 1920–1930-х гг. Поэтология фаустовской культуры читать книгу онлайн
Фаустовская тема в русской литературе впервые зазвучала в творчестве А.С. Пушкина[8]. В 1825 г. он пишет «Сцену из Фауста» и «Наброски к замыслу о Фаусте» (опубл. в 1828 г.). В современном пушкиноведении превалирует возникшая еще в 1970-е гг. точка зрения, согласно которой эти произведения совершенно оригинальны и возникли под пером поэта самостоятельно, независимо от влияния Гете [57, с. 82]. На наш взгляд, это убеждение верно и неверно одновременно. Неверно потому, хотя бы, что «обрывает» связь Пушкина с мировой литературной традицией. Между тем, в обоих произведениях звучат отголоски мотивов, свидетельствующих о том, что Пушкин был знаком не только с трагедией Гете (упоминание Гретхен в «Сцене из Фауста»:), но и с романом Ф. Клингера, создававшимся в России и в 1802 г. переведенным на французский язык, о чем свидетельствует, например, сцена полета Фауста на хвосте дьявола:
Доктор Фауст, ну смелее,
Там нам будет веселее. —
Где же мост? – Какой тут мост,
На вот – сядь ко мне на хвост [58, с. 305],
а также тема восстановления социальной справедливости в «Набросках к замыслу о Фаусте»:
Что горит во мгле?
Что кипит в котле? —
– Фауст, ха-ха-ха,
Посмотри – уха,
Погляди – цари.
О, вари, вари!.. [58, с. 306].
В то же время, бесспорно, верной является мысль об оригинальности пушкинской трактовки «вечного образа», впервые получившего реалистическое осмысление и вобравшего в себя типологические черты русского литературного характера.
Так, истоком внутренней конфликтности образа Фауста у Пушкина является, как это ни парадоксально звучит, отсутствие каких бы то ни было противоречий. В отличие от европейской трактовки образа Фауста, явленного как символа человеческих дерзаний, в его русской модификации заложена идея бесцельности и бездеятельности человеческого существования, лишенного каких-либо устремлений и вызванного состоянием опустошающей разочарованности в своих прошлых порывах. Русскому Фаусту чужда жажда вечного познания или мысль о власти над миром. Его основной мотив – «Мне скучно, бес» [59, с. 283], и основная цель – рассеять скуку, для чего, собственно, и был вызван Мефистофель:
Но, помнится, тогда со скуки,
Как арлекина, из огня
Ты вызвал наконец меня [59, с. 284].
М. Эпштейн отмечает, что деятельному порыву гетевского Фауста Пушкин противопоставляет образ «всеразрушительной скуки», который исследователь связывает с разным восприятием героями времени и вечности: «Труд есть приятие и оправдание всего разумного в здешнем, преходящем, посюсторонним, тогда как скука есть ощущение бессмысленности и напрасности всего конечного, притом, что и конечное, вечное тоже недостижимо. Труд смиряется с необходимостью времени, постигает постепенность усилия, тогда как скука испытывает лишь томление постепенности и находит усладу в разрушении всех конечных вещей» [45, с. 70]. Отсюда, по мысли исследователя, и разное поведение героев Гете и Пушкина на берегу моря – один требует у Мефистофеля возвести плотину, другой – потопить корабль. Отсюда же, добавим, – и развитие подхваченного Пушкиным у Гете мотива проигранной жизни в «Набросках…», где сцена игры в карты Фауста со смертью олицетворяет русскую народную забаву, рассеивающую жизненную скуку:
Ведь мы играем не из денег,
А только б вечность проводить!..
– Вот доктор Фауст, наш приятель —
– Живой! – Он жив, да наш давно —
Сегодня ль, завтра ль – все равно…
Вы знаете, всегда я другу
Готова оказать услугу…
Я дамой… – Крой! – Я бью тузом…
– Позвольте, козырь. – Ну, пойдем… [58, с. 307].
Образ «всеразрушительной скуки» реализует в пушкинском эпизоде два важных момента, определяющих специфику русского осмысления фаустовской проблемы и намечающих пути дальнейшего развития «вечного образа» в мировой литературе. Во-первых, реализованный в «Сцене из Фауста» мотив скуки трансформирует внутренний конфликт, являя, по сути, форму выражения противоречия героя с окружающими миром, в котором Фауст не может найти себе места. В этой интерпретации традиционного конфликта видится переход к восприятию Фауста как «лишнего человека». Акцентировка понятия скуки в пушкинских эпизодах, – отмечает Н. Старосельская, – «мгновенно заставляет вспомнить о принципиально ином времени и об основном герое этого времени – о тех лишних людях, о том цвете общества, в котором после 1825 года модное в начале XIX столетия «байроническое» начало трансформировалось в особую жизненную позицию, заклейменную названием «лишние люди» или «страдающие эгоисты». Думается, именно здесь и берет начало тип русского Фауста [60, с. 93]. Отметим, что типологические характеристики «лишнего человека» в образе русского Фауста неоднократно акцентировались исследователями в связи с явным намеком Пушкина на близость образов Фауста и Евгения Онегина (ср.: «Вот доктор Фауст, наш приятель» и «Онегин добрый мой приятель»)[9]. Новая трактовка Фауста знаменовала деградацию образа титанической личности, выводя на первый план бездеятельное – разрушительное по своей сути – начало, что снимало внутренний конфликт, являло Фауста как героя, находящегося по ту сторону добра и зла. В этой ситуации нивелировалась и трагическая окраска образа – пушкинский Фауст, вследствие своей бездеятельности и безразличия к миру, не мог быть ни возвеличен (спасен), ни наказан. Отсюда – отсутствие концовки в «Сцене из Фауста», т. к. торжество или посрамление Мефистофеля равно теряет свой смысл. Более того, скуке и бездеятельности Фауста противопоставлена чрезмерная активность Мефистофеля, образ которого у Пушкина (как и у Ленау) предстает единственным воплощением деятельного начала:
Без дела, знаешь, от тебя
Не смею отлучаться я —
Я даром времени не трачу [59, с. 287].
Он же вскрывает и подлинные мотивы, побудившие Фауста заключить договор, и подлинную суть фаустовской души, лишенной каких бы то ни было порывов.
Во-вторых, поскольку «Сцена из Фауста» и «Наброски к замыслу о Фаусте» были написаны до выхода в свет второй части трагедии Гете, можно предположить, что образ скучающего Фауста у Пушкина являет следующий этап развития (или стадию состояния героя) гетевского Фауста, а, возможно, и своеобразный итог, знаменующий закат романтической эпохи:
Желал ты славы – и добился,
Хотел влюбиться – и влюбился.
Ты с жизни взял возможну дань,
А был ли счастлив? [59, с. 284].
Обращает на себя внимание то, что на этом этапе в образе Фауста Пушкин акцентирует разрушительное начало, в котором просматривается Фауст XX века, стоящий на пороге исполнения мечты о вечном познании.
2.1.6. Трансформация фаустовского архетипа в эпоху романтизма
Таким образом, в романтической литературе в соотношении мотивов, составляющих поэтологическую матрицу фаустовского архетипа, несколько смещаются акценты – наряду с сохраняющим свою актуальность мотивом вечного познания явственнее звучит мотив преображения пространства, несколько затихает мотив власти над миром; ключевые компоненты архетипической структуры, трансформируясь, обретают новые смыслы.
Внутренняя конфликтность. Актуальная для ренессансной версии Марло трагедия познания в романтической версии Фауста отодвигается на второй план, поскольку устраняется суть противоречий – в соответствии с романтическим представлением о научном знании любой способ овладения последним есть путь к постижению Бога и не является преступлением. В результате конфликт перемещается в другую плоскость, где речь идет, скорее, о возможности практического приложения сил ученого. В этой ситуации внутренняя конфликтность образа Фауста порождается непреодолимостью разрыва между идеалом и реальностью, который осмысливается на трех уровнях – социальнобытовом (Клингер), философско-психологическом (Гете, Пушкин) и теологическом, где активизируется богоборческое начало (Ленау). В этой связи в романтическом осмыслении Фауста акцентируется образ сильной личности, способной выйти за пределы нравственных установлений ради достижения идеала.
Значение договора с Мефистофелем. В отличие от легенды о Фаусте и трагедии Марло, где акцентировалась греховность сделки с Мефистофелем, в романтической интерпретации фаустовского сюжета мотив греховности снимается вследствие включения мистического начала в сферу научного познания. Таким образом, оправданы и цель – проникнуть в тайны вселенной, – и способы достижения цели, т. к. все они подчинены задаче постижения Божественного и, в конечном итоге, – приближения к Богу.
В результате смещения акцента на аксиологическую доминанту познания, образ Мефистофеля приобретает амбивалентный характер и философское осмысление, лишь опосредовано связанное с проблемами добра и зла – скорее, подвергается осмыслению зыбкость границ между ними: