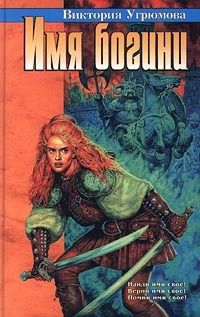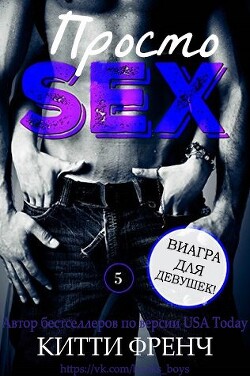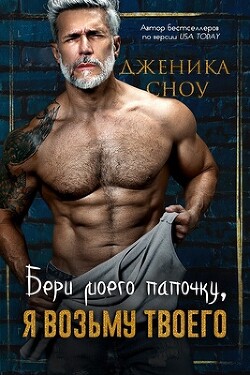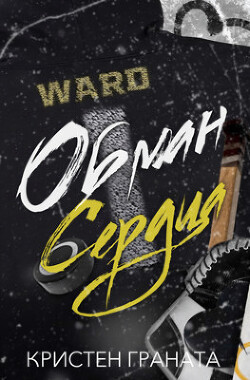Русская народная утопия (генезис и функции социально-утопических легенд) - Кирилл Васильевич Чистов
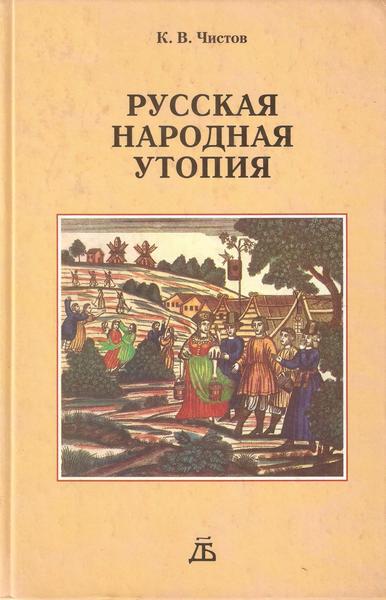
Помощь проекту
Русская народная утопия (генезис и функции социально-утопических легенд) читать книгу онлайн
Своеобразный русский вариант легенд о «золотом веке» бытовал, видимо, преимущественно в старообрядческой среде в форме воспоминаний о дониконовском времени, т. е. о времени до раскола русской церкви, когда древние обычаи церковного обихода и древние дониконовские книги, иконы и тексты молитв и литургии естественным образом существовали и никто за их исполнение не преследовался. Однако целый ряд сторон дониконовской церкви вызывал и раньше критическое к себе отношение (ср. дискуссию иосифлян и «нестяжателей» в XVI в.; упреки священнослужителей в небрежности исполнения церковной службы и др.). Именно на это была направлена и критика кружка так называемых «боголюбцев» в начале царствования Алексея Михайловича, требовавших усиления церковного благочестия, в частности, литургического «единогласия», т. е. произнесения по ходу службы только одного текста, который мог бы быть понятен прихожанам, в отличие от стремления духовенства многих церквей к одновременному произнесению нескольких текстов на церковнославянском языке, что мешало необходимой сосредоточенности на основном тексте и его благостному и осмысленному переживанию. Многогласие демонстрировало стремление служителей церкви к ускоренной службе за счет пренебрежения к богослужебным нуждам прихожан.[10]
Наконец, изыскание материалов, связанных с так называемым самозванчеством на русской почве, вели меня тоже к XVII в., причем, к самому началу его. Этот факт — появление первого «самозванного царя» — мог быть довольно убедительно объяснен. Концентрация колоссальной власти в руках Ивана Грозного и ее антибоярская направленность создавала иллюзию, согласно которой только царь (а первым единодержавцем в истории Руси был именно Иван IV) смог бы защитить крестьян от формирования крепостного рабства. Царь мыслился как некая сила, стоящая над интересами этих классов. Неслучайно самозванцы в великокняжеский (доцарский) период неизвестны или не играли существенной роли в развивавшихся исторических процессах.
Сравнительные изучения выявляют у ряда европейских народов типологически сходные легенды, в несколько иных конкретных формах и с иной мотивировкой (например, «императорские легенды» у немцев, польские легенды о «спящем войске», венгерские легенды о Матвее Корвине, позже о Петефи и др.). Это давало повод прийти к заключению, что легенды об «избавителях» не исключительная, но существенная и своеобразная черта русского крестьянского мировоззрения.[11]
Все это привело меня к отказу от первоначального плана изучения истории русского фольклора второй половины XIX в. От исторического же взгляда на жизнь, быт и художественное творчество крестьянства я отказаться не мог. Однако необходимость для его объяснения потребовала «возвратиться», «попятиться» в XVII век, все говорило о необходимости понять некоторые явления не только исторически, но и феноменологически. Длительная историческая жизнь каких-то элементов крестьянского мировосприятия и менталитета, лежащих в основе социально-утопических комплексов, которые мне стали открываться, настойчиво требовала необходимости совмещения диахронического и феноменологического методов изучения.
Весьма важно было для меня и то, что книга 1967 г. о русских народных социально-утопических легендах задумывалась и писалась в 1960-е годы, т. е. в десятилетие, когда с особенной ясностью обозначился всеобщий (а не только в Советском Союзе) кризис социально-утопических идей, учений и движений. Этот кризис завершал длительный период, отмеченный в истории общественной мысли Европы, Соединенных Штатов и некоторых государств Центральной и Южной Америки повышенной ролью социально-утопических идей. Очень важно было понять, как и почему они неизменно терпят поражение.
Подчеркну, что дело не только в специфической судьбе России. Политические и нравственные проблемы, порожденные террористической сталинской диктатурой, и тоталитарный характер созданного им государства, сочетавшиеся с имперскими амбициями советского правительства, давно уж не вызывали сомнения. Они выявились в 1930-е—1950-е гг. в полной мере, но исторические корни первоначального утопизма русской социал-демократии и раннего большевизма, их природа и шире — судьбы социалистических уравнительных теорий и учений не только в России, но и в других странах — настойчиво требовали исторических разысканий. Таким образом, интерес к истории социально-утопических идей мотивировался как бы двояко — не только академическим интересом проблемы, но и, как говорят, «велением времени».
В известной мере он был порожден тем состоянием общественного сознания в Советском Союзе, которое называют теперь «шестидесятничеством». Этот термин ныне широко употребляется как в публицистике, так и в мемуарах и в научной литературе послесталинского времени. Что касается меня, то я могу назвать себя «шестидесятником» только условно. Я не был диссидентом в политическом смысле этого слова, однако горячо сочувствовал диссидентскому и «правозащитному» движению, как сложному конгломерату форм осмысления тогдашней действительности. Я был в числе тех, кто постоянно читал в кругу друзей «самиздат», т. е. официально запрещенные или по крайней мере неразрешенные политические и экономические трактаты и литературные произведения. «Новый мир» А. Твардовского мы считали «своим» журналом. Мы горячо сочувствовали не только деятельности А. Солженицына и А. Сахарова, великих людей русского сопротивления, но и движению так называемой «молодой поэзии» 1960-х—1970-х гг. и поэтов-певцов 1960-х—1970-х гг. (Б. Окуджава, А. Галич, позже — В. Высоцкий). Политическую деятельность я никогда не считал своим призванием. Мои основные занятия и интересы были связаны с русским фольклором, этнографией, психологией и историей русского крестьянства. История элитарно-нравственного, философского и политического утопизма уже в то время нуждалась в переосмыслении в свете опыта XX в., немыслимо кровавого и в этом своем качестве тоже связанного с благими учениями утопистов, с их стремлением немедленно и безотлагательно воплотить утопические идеи в жизнь.[12]
Учения утопистов от Платона до великих французских, английских и немецких утопистов XVIII–XIX вв., а затем и XX в. изучали издавна и для их уяснения в историческом контексте было сделано много в разных странах Европы и Америки. Известно, что сами по себе идеи далеко не всегда «ответственны» за результаты или попытки их осуществления, особенно если их сторонники стремятся одним рывком реализовать свой идеал, палкой загнать своих соотечественников в рай. Разумеется, это не значит также, что все утопические идеи бесспорны и хороши, а способы их осуществления ошибочны и дурны. Просто надо быть крайне осмотрительным, чтобы не смешивать первое и второе.
В отличие от ученого утопизма попыток проникнуть в толщу крестьянских или шире, народных социально-утопических идей и движений, до сравнительно недавнего времени почти не предпринималось. Важнейшая форма их выражения — народная социально-утопическая легенда — впервые была