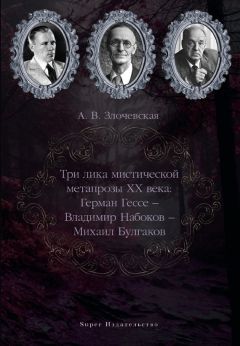Уилл Гомперц - Непонятное искусство. От Моне до Бэнкси

Помощь проекту
Непонятное искусство. От Моне до Бэнкси читать книгу онлайн
Впрочем, изначально это была всего лишь очередная, хотя и заметная, летняя выставка художественного колледжа, разве что организованная и представленная – с достойными восхищения дерзостью и профессионализмом – никому не известным студентом из Северной Англии.
Спустя двадцать лет некогда безвестный студент, теперь уже самый богатый художник мира, затеял еще одну выставку – с целью продвижения и продажи своих новых работ. Конечно, на этот раз место проведения было куда более престижным, а выставка – персональной. Мероприятие состоялось в главном аукционном зале Sotheby’s в Лондоне осенью 2008 года – в день, который поставил мир на колени.
Так заведено, что художники продают свои новые работы через арт-дилеров – это первичный рынок. Позже, если коллекционер, купивший произведение у арт-дилера, хочет его продать, он обращается в аукционный дом, и тот выставляет лот уже от своего имени. Возникает вторичный рынок (секонд-хенд, если хотите). Но никогда еще не бывало, чтобы художник в обход арт-дилера продавал свои новые работы на аукционе. Так не принято; всегда есть посредник между художником и аукционным домом. Если только художник не Дэмиен Херст.
В сентябре 2008 года он сделал весьма оригинальный ход, исключив из процесса купли-продажи своих влиятельных дилеров – британского (Джея Джоплина) и американского (Ларри Гагосяна) – и самостоятельно доставил более двухсот новеньких работ прямо из мастерской в аукционный дом Sotheby’s. Это был смелый и рискованный шаг, не в последнюю очередь грозящий неприятностями со стороны Джоплина и Гагосяна, которые потратили время и деньги, помогая Херсту строить карьеру (но подождите переживать – все состоялось с их благословения).
Не исключалась и вероятность того, что новые работы не будут распроданы, и такой результат мог бы навредить имиджу Херста и снизить его рыночную стоимость. Публичное унижение могло перечеркнуть карьеру восходящей звезды (это, кстати, одна из причин, почему художники предпочитают конфиденциальные коммерческие сделки с арт-дилерами). Но Дэмиена, похоже, не слишком беспокоили возможные последствия, судя по названию, которое он выбрал для своего аукциона. Со свойственными ему самоуверенностью и бравадой Херст добавил мероприятию театральности: оно пафосно именовалось «Прекрасное в моей голове навсегда».
Через несколько дней после того, как Sotheby's выставил работы на обозрение заинтересованных сторон, открылись торги. Все началось в понедельник 15 сентября, а завершилось основным вечером продаж во вторник, 16-го. Пока зал заполнялся возбужденными коллекционерами и их представителями, по ту сторону Атлантики проходило другое мероприятие, повергшее весь Нью-Йорк в не менее взбудораженное состояние. Пока молоток аукциониста отбивал дробь, возвещая об очередной продаже дорогущего лота Херста, остальной мир с замиранием сердца следил за тем, как медленно, но верно правительство США собирается разрешить банкротство некогда могущественного банка Lehman Brothers, тем самым приближая мировую финансовую катастрофу.
Мир искусства, казалось, не замечал серьезности ситуации, продолжая сбывать по заоблачным ценам маринованных животных и ярко раскрашенные картины. На первый взгляд, аукцион обернулся триумфом. По данным Sotheby's, почти все лоты были проданы, и общая (умопомрачительная!) выручка превысила 100 миллионов фунтов стерлингов. Все ли смогли расплатиться (после краха Lehman Brothers) и был ли у тех, кто озвучивал эту цифру, свой интерес в раскрутке художника – обо всем этом спорят до сих пор. Но значимость аукциона и совпавшего с ним по времени финансового коллапса бесспорна. Эти два события ознаменовали конец целой эпохи капитализма и – если ближе к нашей теме – целой эпохи в современном искусстве. Они стали кульминацией двадцатилетнего периода, когда в отношениях между художниками, кураторами и арт-дилерами преобладали задорный энтузиазм, юношеский оптимизм и культура предпринимательства. Вот и придумалось слово, которым я собираюсь подытожить новейший период истории современного искусства. Слово это – предприниматизм.
Постмодернисты чувствовали, что предыдущие поколения художников оставили их плыть по течению. Они много обещали, но так и не смогли добиться утопического идеала, а их «великие нарративы» остались пустыми разговорами, не подкрепленными планом действий. Технологии и наука тоже доказали свою несостоятельность – в том смысле, что не предложили панацеи, о которой так много трубили. Постмодернисты были сыты попытками осмыслить мир, в котором единственной определенностью казалась неопределенность. Их век омрачала экзистенциальная тревога.
Чего нельзя сказать о напористом поколении, которое выходило из стен художественных институтов Европы и Америки в конце 1980-х и начале 1990-х годов. Эти ребята были так же уверены в себе, как постмодернисты встревожены; их юмор был скорее черным, чем тонко-ироничным. И они не собирались устраняться из своих произведений и заниматься самокопанием. Как бы не так. Дерзкие, открытые, повернутые на саморекламе, они держались вызывающе – и действовали в соответствии с пробивной доктриной, которую с евангелическим рвением проповедовали Маргарет Тэтчер и Рональд Рейган, Гельмут Коль и Франсуа Миттеран. Им нравилось ощущать себя центром собственной вселенной. Жан-Поль Сартр, знаменитый философ-экзистенциалист, в свое время сказал: «Человек – это то, что он из себя делает»; правда, потом добавил: «Человек – прежде всего существо, которое осознанно проецирует себя в будущее». «Ну-ка, попробуй!» – так принимали вызов художники нового поколения. Британская поросль воспитывалась на заявлении, сделанном Маргарет Тэтчер в 1979 году: «Такого понятия, как общество, попросту не существует». В ее понимании человек должен был заботиться о себе сам.
Выбор предстоял и вправду жесткий: или пан, или пропал. Тинейджеров из рабочих семей, которых государство не потрудилось обеспечить достойным или по крайней мере соответствующим их амбициям и интеллектуальным способностям образованием, это и раздражало, и, как ни странно, подстегивало. Раз им предложили такую игру – что ж, они согласны в нее сыграть, но за счет истеблишмента. Им было плевать на правила, они готовы бросить вызов власти и заявить о себе миру всеми доступными средствами. Выставка «Фриз» 1988 года стала первым публичным заявлением молодых художников о том, что свою судьбу они будут определять сами. Имея в виду не только творчество, но и политические взгляды, и деньги, и эстетику. Они привнесли дух предпринимательства и в свое искусство, и в окружавший их мир.
И никто не воплотил этот дух лучше, чем Дэмиен Херст. Еще студентом он открыл для себя макабрические и тревожные картины Фрэнсиса Бэкона, британского художника-экспрессиони-ста. В те годы Херст стремился состояться как художник, но в конце концов сдался, обнаружив, что все его холсты напоминают «плохого Бэкона». Вместо этого он начал переделывать свои героические картины в трехмерные изображения, переосмысливая их как скульптуры. В 1990 году родилась инсталляция «Тысяча лет» (ил. 35) – блестяще задуманная и великолепно исполненная работа, одновременно зловещая и жизнеутверждающая.
Она представляет собой большой стеклянный параллелепипед – около четырех метров в длину, два в высоту и два в ширину – в черном стальном каркасе. Внутри параллелепипед разделен пополам стеклянной перегородкой, в которой просверлены четыре круглых отверстия размером с кулак. В одной секции стоит белый куб из ДВП, похожий на гигантскую игральную кость, с тем лишь отличием, что все грани отмечены только одной черной точкой. По другую сторону стеклянной перегородки на полу лежит гниющая голова коровы. Над ней висит электронная мухобойка из тех, что можно увидеть у мясников. В двух противоположных углах стоят миски с сахаром. Для завершения образа Херст добавил мух и личинок. В итоге получилось нечто напоминающее наглядное пособие по биологии – в помощь учителю, объясняющему мушиный жизненный цикл: муха откладывает яйца в коровью голову, яйцо превращается в личинку, которая питается разлагающейся плотью, пока не вылупится в муху; та будет лакомиться сахаром, спариваться с другой мухой, опять откладывать яйца на коровью голову, пока ее не прибьет мухобойка (в роли равнодушного Бога), после чего насекомое упадет на коровью голову – и теперь уже дохлая муха станет частью разлагающейся органической материи и обеспечит питанием только что вылупившихся личинок. Отвратительно? Да. Хорошо? Очень. Искусство? В высшей степени.
Ил. 35. Дэмиен Херст. «Тысяча лет» (1990), фото Роджера Вулдриджа
Дэмиен Херст, заметьте, не учитель естествознания, он художник, и это означает, что перед нами произведение искусства – или по крайней мере работа, требующая, чтобы ее оценивали как произведение искусства. «Тысяча лет» – или «Судьба мухи», как ее еще называют, – вписывается в художественно-исторический канон, который можно проследить за сотни лет. Тема жизни и смерти, рождения и смерти так же стара, как само искусство. Прямоугольный бокс и белый куб выглядят более или менее современными; это ссылки на минимализм: Сола Левитта (на две трети) и Дональда Джадда (на треть). Но есть во всем этом и что-то от Йозефа Бойса. Немецкий художник активно использовал витрины – стеклянные шкафы для экспозиции объектов, где выставлял всякие странные мелочи, включая батарейки, кости, сливочное масло и ногти. Разлагающаяся плоть коровы напоминает застывшую масляную краску багрово-красных оттенков, которые наделяли картины Бэкона зловещей магией. И Дюшан тоже здесь, дадаистское присутствие его «реди-мейдов» очевидно в сахарницах и мухобойке: это предметы из повседневной жизни. Есть что-то и от Швиттерса с его «Мерцами», и от «Комбинаций» Раушенберга, в немалой степени из-за включения в композицию мертвого животного. Эту работу можно определить и как произведение концептуального искусства – результат тщательно спланированной идеи, которая продиктовала материал и форму.