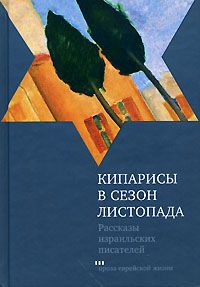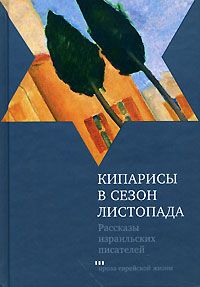Владимир Бибихин - Владимир Вениаминович Бибихин — Ольга Александровна Седакова. Переписка 1992–2004

Помощь проекту
Владимир Вениаминович Бибихин — Ольга Александровна Седакова. Переписка 1992–2004 читать книгу онлайн
Совсем недавно в Поленово мы говорили с Анной об интеллигенции: что во Франции она такая же, как крестьянство, одной кости, а в России — как в Индии, отделена решительно. И что так оно не то чтобы хорошо, но есть и будет. (Это мнение Анны.) И я сказала, что надеюсь, что не будет, и прежней касты мне не жаль. Как я счастлива, что народ — не то, что Фронт нац. спасения. Демон бездумной жестокости, кажется, покидает нас.
Глинку я тоже очень люблю, и пожалуй, романсы больше всего. В нем нет «задушевности», самого неприятного для меня свойства, которым как будто непременно отмечено русское искусство. Впрочем, немцы тоже этим хвалятся: “Unsere deutsche Herzlichkeit”. Я всей душой за «Играй, Адель» и Марш Черномора.
Извините,
кончаю бессвязное письмо
Ольге поклон и всего самого доброго. Маленькому Володе и Роме нежный привет.
Ваша
О.
P.S. Я не спрашиваю про Сороса, потому что ответа не получу — но не понимаю, что мне может причитаться.
P.P.S. Ах, да, я заметила, что не попыталась объяснить, каким образом уверенность в единстве и — цитирую Вас — в том, что в глубине «именно слава, а не наоборот, именно весть, а не обман» может быть увязана с гётевским «и так, и наоборот». Да потому, что эта слава и эта весть парадоксальны, и как только их с чем-нибудь окончательно отождествляют, не допуская противоположного, это будет уже неправда, натурализация. Например, цветаевская «великая низость любви» — правда и противоположное — тоже. Только одно или только другое («высота любви») — это уже «идеи» (не в платоновском, конечно, а в расхожем смысле), «идеи» же превращаются в лозунги, в программы действий. А глубину или гётевский «прафеномен» нельзя сделать программой действий. Из нее для практики можно добыть только одно: готовность отменить свою готовую программу, опознать неожиданное, и т.п. Но это никак не плюрализм. Не знаю, отвечаю ли я Вам? Ведь это Вы наверняка без меня прекрасно знаете.
1994
Keele [9], 19.3.1994
Дорогой Владимир Вениаминович,
Я знаю, что Ольгу и Вас можно поздравить с благополучным разрешением. Посылаю новорожденному ложку на зубок. Мне понравился ее девиз [10].
Наверное, Вам некогда писать? Мне хотелось бы многое Вам рассказать, но сейчас не получится: тороплюсь к оказии. Лучше я напишу обстоятельнее по почте, а пока пользуюсь случаем поздравить.
Англия — самая милая для меня страна на свете. Сами они, конечно, бранят свое правительство и официальный курс “Back to the basics!”. Но контр-авангардное настроение назревает. Хотя меня пугает всякое “back!”, но похмелью от левизны я рада (культурной левизны). Если бы только не принять что-нибудь неприятное за “basics”. И что-нибудь невеселое за «этику».
Но в самом деле, простите, не могу пока много писать!
Дай Вам и Ольге и всему Вашему дому Бог всего самого доброго!
Ваша
О.
Жду письма!
Яуза, 6.4.1994
Дорогая Ольга Александровна,
как мы были рады Вашему письму и золотой ложечке, которая сразу пригодилась кормить Олежека яблочным пюре — он уже такой, вообще ранний, и в нем можно наблюдать часы чистого заворожения бытием. Хотя сам он не наблюдает, и странным образом внимание к маме, к звукам не сопровождается движением глаз, они смотрят в другую сторону и видно, что он внимательно смотрит другими глазами, не задействуя эти, которые живут своей жизнью. Параллельные линии у него еще не пересекаются. Он не похож на Володика никак, тихость и нежность у него ни с чем не сравнимые, Ольга думает, что он пойдет в монастырь, хочет этого. Насколько Володик лишен слуха и превращает песни в возгласы экстатического торжества, настолько Олег, уже сейчас видно, музыкальный. У Володика зато отчетливый рисунок и уверенная кисть и безграничная усидчивость, а Олег воздушно-нервический. Этимология Ольги и Олега, насколько я понимаю, наше «целый» и немецкое «святой», английское heal, или это народная этимология? — В № 1 «Славяноведения» за этот год продолжается Ваш словарь, и он затаенно особенный, в нем совершенно нет складского неуюта, каждая статья как Ваше осторожное обращение к читателю с полезным наблюдением, ненавязчивый совет чувствуется постоянно, все превращается в тихий разговор с Вами о том, что происходит с речью, с нами. Язык собственно мельчает. Пока публицистика оглушена и оглушает своими заботами, у поэта есть большое и мало кому понятное дело, восстановление языка.
У меня даже очень есть время писать, трое мальчиков в семье придают жизни основательность и окончательность, раньше мне совершенно неведомые, а заботы с детьми, если решено главное (если есть согласие; если не бывает и намека на конфликт; если любое домашнее дело без дележа и расчета обязанностей всегда сразу может быть подхвачено другим; если ждешь от близких только лучшего и каждый раз снова прежде всего просто радуешься им, которых могло не быть), на удивление невелики. Одно только плохо: в России худо со школой, мало кто по-настоящему хочет учить и еще меньше кто умеет. Правда, Анюта и Кирилл говорят, что во Франции хотя и на каждой обложке учат детей, но по существу техническим навыкам. В Англии, возможно, школа лучше? То, что Вы пишете о домашней политике новых консерваторов back to the basics — nothing is wrong here except the sound of the words… they sound boringly stale, incorrigibly red-tape; and the left intelligentsia, shocked to colics by the style, is doomed to reflect it in a negative way. Same as with us, although with less thirst of blood and more common sense. Что происходит в политике здесь, я теперь, не читающий газет (покупаю их все реже и они все больше шокируют пустотой и однообразием, кроме может быть «Литературной» — странно говорить об однообразии, когда их все больше и с самыми пестрыми названиями, но с газетами как с кооперативными киосками, их однообразное множество; расслоения газетной публики, как в Англии например, не происходит, опять же кроме может быть «Литературной», и, скажем, «Независимая» все еще так же хочет быть газетой для всех, как раньше «Правда» или «Известия», с тем единственным результатом, что все вернее впадает во всеобщий и всех задевающий тон, т.е. скандала), знаю только даже хуже чем слепой крот, даже не по шевелениям воздуха и земли, а как слепо- и глухонемой, по движениям собственного тела, словесного, во время говорения в университете и очень редко где еще. Тут я быстро меняюсь, каждый почти раз провал, отрезвление и одновременно новое начало. Неожиданно я начал понимать оставленность Богом и бытием во всех смыслах этого слова, и даже больше в том, что мы оставлены быть, не отменены, не отправлены в бросовый материал. Оставленность тогда вовсе не обязательно падение, а свобода, подаренная, чтобы мы имели возможность привязаться к дарителю без связанности им. В этой связи по-новому приоткрывается Кант: как урок прослеживания во всем, что человек знает и делает, того, что дало человеку возможность так много знать и так много делать, именно отсутствия во всем, с чем человек имеет дело, вещи в себе, надежная оставленность всех явлений — а все вообще у Канта только явления — чем-то лежащим в основе всего и совершенно неприступным. Причем неприступен у Канта не дух, божественный или человеческий, а более простые и, так сказать, инженерно-технические вещи всеобщего мироустройства, как в блестящем примере из «Пролегомен» с отражением руки в зеркале. Там та же вроде бы по всей видимости рука, но совпасть при наложении они не смогут ни в одной малейшей детали. И это показывает, что рука собственно, рука в себе или то, что лежит в основе того, что является как правая и левая рука, во-первых вещь другая, чем правая и левая рука, а во-вторых, никакими усилиями «вычислена», угадана, уловлена как нечто среднее левого и правого быть не может. Я подумал, что то же самое соловьевский «человек», целое мужского-женского: он явно где-то совсем рядом и даже раньше мужского-женского, но всякие попытки его обнаружения только с силой отбрасывают снова к мужскому-женскому, а та вещь остается и биологически и физически и химически и никак неприступной. Т.е. Кант трезво указывает на недостижимость не Бога так уж сразу, а вот самой близкой софии мира и тела; она сделана так, что должна была бы сразу отрезвлять всякое человеческое распорядительство, если бы была замечена, если бы, в частности, Канта прочитали. Наверное, у Гераклита его ночь-день, война-мир и т.д., которые одно, вполне аналогичны парам из кантовских примеров. В самом деле, ясно же, что день оттенен ночью, ночь высвечена днем, они друг без друга не могут, стало быть они как-то одно — но это одно как раз невычислимо, ненаблюдаемо, а главное неименуемо, как таинственное «среднее» правого и левого, мужского и женского и т.д. Т.е. люди живут как дикари даже не рядом со сложнейшей и непостижимой автоматикой, а внутри нее, и Кант призывает обратить внимание на то, что умение нажимать на кнопки и получать результат совсем не равносильно знанию устройства и назначения. Флоренский и Булгаков, которые умели нажимать на кнопки благочестия и все у них работало, сердились на Канта за то, что он не поступает так же, но по сравнению с ним они техники (техника духа, техника символизма, обряда), заворожены работой механизма, действительно удивительной, и как дети отождествляют себя с изобретателем, вот-вот обожатся, а Кант ошеломлен («удивлен») немыслимой разницей. Опять вспоминаешь Гераклита, который говорит, что скольких авторов ни читал, нигде не нашел понимания, что мудрое от всего отдельно. — Я быстро меняюсь и склоняюсь к трезвости и этому кантовскому знанию своего места и отсюда сужу об общей перемене, догадываясь только, что там будет больше ненужной жесткости и меньше ума; что делать. —