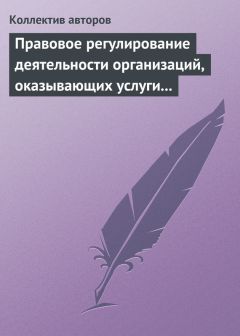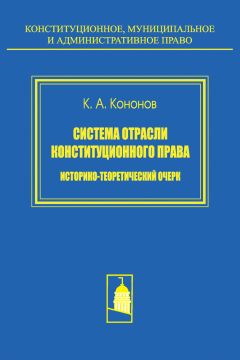Евгения Осиночкина - Основы теории служебного права
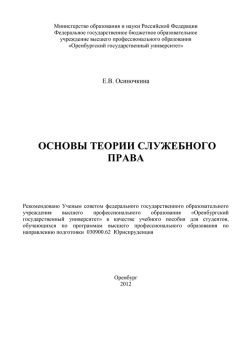
Помощь проекту
Основы теории служебного права читать книгу онлайн
3) крайнюю ограниченность перспектив служебной карьеры (чиновник часто оставался в одной и той же должности весь срок своей службы, тоже часто составлявший лишь нескольких лет), что лишало смысла создание столь обычной в других бюрократических системах лестницы личных связей для продвижения наверх;
4) личную зависимость всех чиновников от императора;
5) жесткие меры против неформальных связей в среде чиновников, чтобы предотвратить возникновение в их среде устойчивых коалиций; к числу таких мер относились: неукоснительно действовавший в моральном кодексе китайской бюрократии запрет на личную дружбу, запрещение чиновникам принадлежавшим к единому семейному клану, служить в од ной провинции, запрет на браки с женщинами из числа местных жителей, на приобретение собственности, находящейся под юрисдикцией чиновника (нужно заметить, что все эти мерь приводили к существенным потерям и снижали эффективности работы административной машины в целом, однако предотвращение любой потенциальной возможности возникновения чиновничьей среде организованной коалиции считалось безусловным приоритетом);
6) финансовую зависимость чиновника не от императорского жалованья (обычно довольно небольшого и далеко не покрывавшего расходы на получение должности), а от его умения выжать из императорских подданных максимум доходов, в том числе – и в свою личную пользу, что неизбежно превращало чиновника в очень уязвимого нарушителя законов со всеми сопутствующими последствиями – страхом разоблачения, неуверенностью даже в ближайшем своем будущем, возможностью держать его "на крючке" и т. п.;
7) отсутствие у чиновников каких-либо личных или корпоративных гарантий от их произвольных увольнений, понижений в должности и перемещений; все законы были сформулированы таким образом, что чиновник просто не мог их не нарушать и потому находился под постоянным страхом разоблачения и наказания, что делало его полностью зависимым и беззащитным перед высшей властью (в этом – одно из ключевых отличий китайских чиновников от "веберовских" бюрократов);
8) наконец, особо тщательный контроль за потенциально более опасной для власти высшей и средней бюрократией посредством разветвленной сети секретной полиции (цензоров), практики непосредственной связи императора с низшим эшелоном бюрократии, минуя ее промежуточные уровни, отсутствие должности главы правительства, функции которого исполнял сам император, и, конечно, личная система всех назначений14.
Известный китаевед Л. С. Переломов, анализируя влияние легистской политической доктрины на организацию китайской администрации, перечисляет в сущности близкий набор механизмов, содержавшихся в виде системы предписаний в легизме – политическом учении, практически лежавшем в основе всей китайской государственной системы: 1) систематическое обновление аппарата; 2) равные возможности для чиновников; 3) четкая градация внутри самого правящего класса; 4) унификация мышления чиновничества; 5) цензорский надзор; 6) строгая личная ответственность чиновника15.
Как мы видим, система, позволявшая держать бюрократов "в узде", была глубоко эшелонированной, с большим запасом прочности. Это показывает, помимо всего прочего, понимание реальности опасности, исходящей от недостаточно подконтрольной бюрократии.
Другие восточные деспотии далеко уступали Китаю по уровню продуманности и организованности системы бюрократических "приводных ремней". Возможно, поэтому они оказывались исторически гораздо менее стабильными, а Поднебесная являет уникальный образец устойчивости политического организма..
Например, в Индии к чиновничьему мздоимству относились с философской терпимостью как к неизбежности. Еще 2500 лет назад Каутилья, главный министр императора Чандрапурта Маурия, перечислил в книге "Арташастра" 40 видов присвоения чиновниками государственного дохода, но при этом с поистине браминским спокойствием заключил: "Как невозможно не попробовать вкус меда или отравы, если они находятся у тебя на кончике языка, так же для правительственного чиновника невозможно не откусить хотя бы немного от царских доходов. Как о рыбе, плывущей под водой, нельзя сказать, что она пьет воду, так и о правительственном чиновнике нельзя сказать, что он берет себе деньги. Можно установить движение птиц, летящих высоко в небе, но невозможно установить скрытые цели движений правительственных чиновников"16.
Таким образом, в рамках восточной модели государственной службы фактор ее публичности был минимален. Вся армия чиновников работала на обеспечение нужд не всех людей, ацентральной власти и своих собственных. Поэтому, хотя некоторые чисто внешние атрибуты и роднят ее с европейской бюрократией нового времени, думается, было бы правильнее характеризовать ее как псевдобюрократию. Для европейских же империй характерен смешанный вариант, поскольку в рамках европейской политической традиции деятельность государственных чиновников еще со времен древнего Рима рассматривалась не как одно только служение суверену, но и как отправление необходимых для всех слоев общества публично-властных функций. Поэтому старые европейские бюрократии, видимо, следует классифицировать как "полуимперский" вариант.
2.5 Исторические формы бюрократии в России
В России на протяжении ее истории сочетались различные варианты "имперской" модели: до XVIII века доминировала смесь ее византийского и татарского вариантов, причем последний, в свою очередь, использовал в огрубленном виде элементы китайского образца, в частности – в сборе налогов. Таким причудливым образом, преломленный через золотоордынскую "призму", пришел в Россию китайский образец управления. С петровскими реформами в нее добавились элементы, заимствованные от европейского абсолютизма, т. с. от "полуимперского" варианта. С XIX века, а особенно со второй его половины – со времени реформ Александра II, начали развиваться и элементы модели рациональной бюрократии. Однако в целом имперская модель "государевой службы" все же преобладала вплоть до 1917 года, а в советский период она получила новый мощный импульс. В общем, в "историко-географическом" плане можно выделить восточную традицию с ее многоступенчатой, склонной к произволу и неэффективной администрацией и два варианта традиции западной – континентальную и англо-американскую. Разумеется, это лишь первичное деление, только задающее общие координаты для конкретного страноведческого анализа. Принципиальное же различие двух названных западных подтипов состоит в том, что на европейском континенте демократизация политической системы произошла намного позднее возникновения бюрократии; и в целом традиция достаточно разветвленного и обладающего немалыми полномочиями государственного аппарата исполнительной власти сохранилась и была довольно безболезненно инкорпорирована в политические системы демократии.
В Америке же процесс был обратным: государственным идеалом американской революции было самоуправление свободных людей на свободной земле и сильное недоверие к любой исполнительной власти, ассоциировавшейся с колониальной администрацией британской Короны (оставляем в скобках тот парадокс, что как раз британская администрация была наименее централистской по сравнению с другими европейскими странами). Поэтому бюрократия, возникшая в Америке позже демократии и на ее базе, "по определению" вызывала у граждан подозрения и должна была приспосабливаться к условиям и политическим ориентациям изначально эгалитарного общества.
Конечно, XX век многое изменил в статусе американской бюрократии, приблизив ее к европейским стандартам. И все же самоуправленческая, федералистская традиция настороженности и неприязни к "чиновникам из Вашингтона", стремящимся ограничить право людей самим решать свои дела, сохранилась. Более того, в последние десятилетия, с развитием идеологии, о которой мы говорили в связи с "реалистической" трактовкой бюрократии, эта тенденция даже усилилась.
Каково же место российской бюрократии в этой классификации? Полагаю, она занимает промежуточное положение между восточной и континентальной традициями. Сопоставляя ее с бюрократией американской, можно сказать, что они отправлялись от противоположных исходных пунктов. В США это – федералистская традиция слабого, существенно ограниченного в своих возможностях и полномочиях правительства, лишь постепенно несколько усиливавшегося: сперва – в начале XIX века – на базе взглядов и деятельности А. Гамильтона, затем – два десятилетия спустя – благодаря энергичной административной практике Президента Э. Джексона, а уже в нашем столетии – вследствие теории и деятельности В. Вильсона и потом Ф. Рузвельта. В России же, как известно, автократическая традиция отправлялась от понимания государства как царевой вотчины, укрепилась петровско-николаевским деспотическим абсолютизмом и лишь с середины XIX века начала медленно, с попятными движениями размягчаться под воздействием либерально-демократических веяний. Однако после 1917 года авторитаризм возродился в новом обличье. Девяностые годы принесли нам надежды на переход России на демократический путь развития, в частности – на реанимацию пусть слабых, преследовавшихся, почти раздавленных, но все же выживших ростков демократии и самоуправления. Одним из ключевых этапов на этом пути (если нам удастся по нему продвигаться) должны будут стать реформа нашей бюрократии, придание ей более цивилизованного характера, ограничение ее полномочий и установление над ней эффективного общественного контроля.