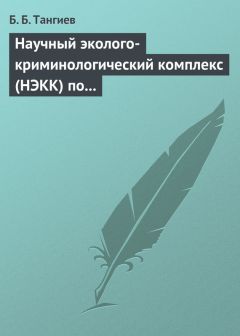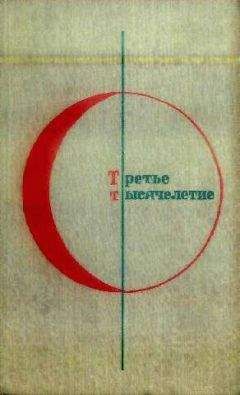А. Тер-Акопов - Мировые религии о преступлении и наказании
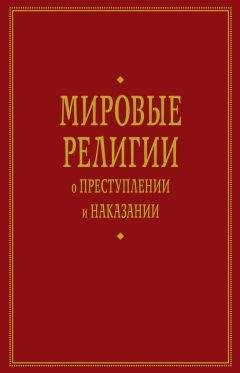
Помощь проекту
Мировые религии о преступлении и наказании читать книгу онлайн
4. Эпоха Царств (XI–VI вв. до н. э.), сначала единого царства, управлявшегося Саулом (конец XI в. до н. э.), Давидом (конец XI – начало X в. до н. э.) и Соломоном (X в. до н. э.), а затем двух разделенных государств – Северного, Израильского царства (930–722 гг. до н. э.) и Южного, Иудейского (930–586 гг. до н. э.), – период наиболее активного становления государственности [53] . Меняется общественный строй, появляются новые институты власти, значительно изменяется культ – все это ведет к изменениям в юридической сфере.
Прежде всего, активно разрабатывается юридическая терминология. В обиход входят такие понятия, как « мишпат » – «суд, правосудие», « риб » – «тяжба», « хок » – «постановление», « тора » – «закон» и др., речь о которых пойдет далее. Меняется и судебная система. Место глав рода или судей занимает царь, в руках которого оказывается основная законодательная и исполнительная власть (1 Цар. 8: 11–20), хотя по-прежнему продолжают существовать местные органы судопроизводства (3 Цар. 8:1) [54] . Местные суды по-прежнему собирались в городских воротах, и заседали в них именитые горожане или старейшины (3 Цар. 8-11; Плач 5:14). Есть свидетельства, согласно которым члены местных судов назначались царем (например, 2 Пар. 19:5-11), но вопрос взаимосвязи между судами старейшин и судами, назначавшимися царем, остается неясным. Царь вершил свой суд единолично (1 Цар. 8:5; Пс 71:1–4; Иер. 22:15–16), возможно в специальном «зале суда» (3 Цар. 7:7). Как взаимодействовали эти две судебные системы, остается не совсем понятным. Логично предположить, что царский суд считался высшим и в него обращались с делами, которые не могли разрешить местные суды. Но, может быть, люди могли обращаться к царю непосредственно, минуя местный суд. Так, судя по всему, в известной истории о двух блудницах, пришедших к Соломону, чтобы поделить ребенка, они пришли прямо к царю, известному своей мудростью (3 Цар. 3:16–28). В 4 Цар. 6:26–29 описано, как в осажденной Самарии некая женщина бросилась к проходившему мимо царю Иораму, ища праведного суда. Интересно, что и в этом случае дело касалось жизни ребенка. В третьем случае (4 Цар. 8:3–6) к Иораму обращаются с имущественным вопросом.
Царь был не просто ключевой фигурой социальной системы, появилось представление о том, что Завет, некогда заключенный с коленами Израиля, трансформировался, став Заветом с домом Давида, представляющим Израиль (2 Цар. 7:817) [55] . Его главной задачей было обеспечение порядка в государстве. Он был воином (1 Цар. 8:20), судьей (1 Цар. 8:5; 2 Цар. 12:1-15; 14:1-24; 15:1–6; 3 Цар. 3; 21:1-20; 2 Пар. 19:4-11) и священником (1 Цар. 13:10; 14:33–35; 2 Цар. 6:13, 17; 24:25; 3 Цар. 3:4, 15; 8:62; 9:25; 12:32; 13:1; и др.) [56] . Но вместе с тем фактическая власть в государстве, на разных этапах его существования, принадлежала еще и пророку, и первосвященнику. За несколько веков истории Израильского и Иудейского царств роль каждой из сторон неоднократно менялась. Например, в годы установления монархии пророк помазывал царя, избранного Богом, был своего рода гарантом его власти. Таковы, прежде всего, Самуил и Нафан. Позже, когда власть стала наследственной, пророк стал либо придворным должностным лицом (лжепророк Седекия, сын Хенааны) (3 Цар. 22), либо проповедником, скорее представлявшим оппозицию. Например, Исайя (Ис. 7) и Иеремия (Иер. 37), не будучи придворными пророками, были вхожи к царям и часто обращались к ним с назиданиями, а Амос, Михей и Осия, «народные» пророки, вообще были противниками монархии.
Пророки, в отличие от царей, не имели непосредственного отношения к юридической системе. Они не могли судить, не могли устанавливать законы, но они, будучи носителями Божественного откровения, были одновременно и носителями Божественного, абсолютного закона. Сутью любого пророчества было не описание грядущих событий (это был, скорее, метод воздействия), но призыв к людям об исполнении Завета. Никогда, со времен синайского откровения, идея Завета не звучала так остро, как в период царств – эпоху пророков. В этот период четко формулируется понятие святости: святой народ живет на святой земле до тех пор, пока соблюдает святой закон. Нарушая закон, народ перестает быть святым и теряет право проживания на святой земле. Царь, как главный человек в государстве, на которого возложена ответственность за всех остальных граждан, оказывается ответственным именно за соблюдение Завета, прежде всего им самим, а также его подданными. В этом контексте не удивительно, что пророки, как носители высшего закона, оказываются судьями над царями, которые сами были верховными судьями. Один из самых ярких тому примеров – история Давида и Вирсавии (2 Цар. 11–12), когда пророк Нафан, осуждая Давида, рассказывает ему притчу, и Давид, сам того не осознавая, выносит приговор самому себе. Конечно, пророки не могли наказать царя или народ в соответствии с требованиями закона, они были скорее провозвестниками Божественного суда. Они увещевали, оглашали приговор, выступали свидетелями, но воздавал Бог (Ис. 65:6–7; Иер. 16:18; Иезек. 7:1–5 и др.).
Развитие описанной выше концепции святости связано со значительным развитием культа, произошедшим в этот период. С момента появления ковчега Завета, внутри которого хранились скрижали с Декалогом (Исх. 25), иудаизм все более и более превращается в религию одного Бога и одного святилища. Со времен царя Соломона, когда местом хранения ковчега был выбран Иерусалим, иудаизм, в большой мере, становится религией Храма. Храм оказывается зримым воплощением Завета: святыня Храма – ковчег Завета, сердцевина которого – скрижали с законом. Центральная идея иудаизма – Завет Бога с избранным народом, суть которого – исполнение закона. С этой точки зрения можно сказать, что именно в этот период иудаизм начинает осознавать себя как религия закона. Не удивительно, что это осознание ведет к активному осмыслению самых разных аспектов проявления этого закона [57] .
Прежде всего, четко формулируются законы ритуальной чистоты, представляющие собой основу сложившегося позже Кодекса святости (Лев. 17–26), а также законы, связанные с жертвоприношениями и благосостоянием храма и священства (например, законы о десятине (Втор. 14), о части жертв, отдаваемой священникам (Втор. 18), или законы о приношении первых плодов (Втор. 15:19–22)). Развивается семейное (например, законы о почитании родителей (Исх. 20:12; Лев. 20:9; Втор. 21:18–21)), о первенцах (Числ. 3:12–13; Втор. 21:17), о наследовании (Втор. 21:15–17), брачные законы (Втор. 20, 22, Числ. 5:11–31)), имущественное (Лев. 25; Втор. 23–24), уголовное (Исх. 20:13–17; 21–22 и др.) право. Появляется целая группа законов, регламентирующих деятельность различных должностных лиц: царей (Втор. 17:14–20), пророков (Втор. 13, 18), судей (Втор. 17:8-13), а также упорядочивающих процедуру суда (Втор. 17:8-13; 19:15–21).
Все эти законы воспринимаются как части единой системы, и потому именно теперь у евреев появляются законодательные своды (4 Цар. 22:8), считающиеся богооткровенными, регулирующими самые разные стороны человеческой жизни, от общественной и ритуальной до частной. Вершиной развития законодательной системы стала реформа, начатая царем Езекией (727–698 гг. до н. э.) (3 Цар. 18) и законченная царем Иоси ей (639–609 гг. до н. э.) (4 Цар. 23:4—24). Основной целью реформы было очищение иудаизма от влияния иноземных религий и централизация культа в Иерусалиме. Но благодаря установившейся в этот период тесной связи между религией и законодательством, реформа затронула и юридическую сферу, благодаря чему появилась книга Второзаконие, где еврейский закон сводился в единое целое. Некоторые законы, представленные во Второзаконии, очень древние, но теперь они обретают новую форму, продиктованную новыми историческими и социально-политическими обстоятельствами. Таковы, например, закон о седьмом годе (ср. Исх. 21:1-11; Исх. 23:10–11 и Втор. 15) или закон о первых родах и перворожденных (Исх. 13:2, 11–16; 22: 28–29; 34:19–20 и Втор. 15:19–23) [58] . Реформа Иосии подтолкнула формирование Торы. Изначально этот термин применялся только ко Второзаконию, и именно эта книга приписывалась Моисею (Втор. 31:9), и похоже, что именно Второзаконие стало первой книгой, получившей статус Священного Писания (4 Цар. 23:1–3). В других частях Пятикнижия, прежде всего в Кодексе святости, понятием «тора» вводились отдельные небольшие собрания предписаний: Закон о жертве повинностей (Лев. 7), или Закон о родившей (Лев. 12:7), или Закон о назорее (Числ. 6:13) и др. Видимо, именно в правление Иосии все эти части начинают объединяться в одно законодательство, которое в период Плена составило ту Тору, которая сохранилась до нашего времени. Соединение культовых законов со светскими привело к тому, что знание закона стало прерогативой не только священников, но и мудрецов, что оказалось очень важным после разрушения Храма, когда священство ослабло и наибольшим влиянием в обществе стали пользоваться именно мудрецы книжники. Несомненно, что в полной мере секуляризация закона произошла в период Второго Храма, особенно после его разрушения, но начало этому процессу было положено реформой Иосии [59] .