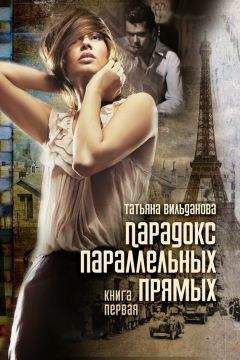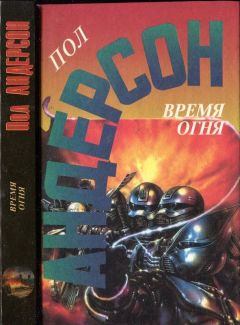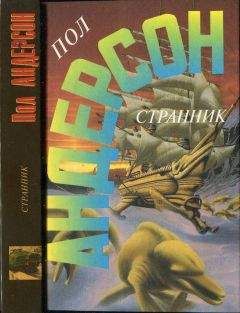Сергей Зенкин - Работы о теории. Статьи
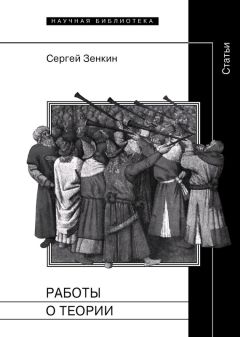
Помощь проекту
Работы о теории. Статьи читать книгу онлайн
Примером различия филологического и микроисторического подходов может служить попытка К. Гинзбурга использовать в своем анализе столь важное понятие современной филологии, как понятие диалогического слова. В ряде работ, основанных на материалах судебных (инквизиционных) процессов, он мастерски прослеживает риторические стратегии каждой из сторон, интерпретирует синтагматический смысл каждой реплики, а в статье «Колдовство и народная набожность» делает важный теоретический вывод о структуре такого рода диалогов: по его мысли, влияние судьи на ответы подсудимого (с помощью пыток и техники допроса), конечно, имеет место, «однако встречаются и случаи вроде рассматриваемого, когда все это воздействие не может заставить ведьму полностью отречься от своей воли и в конечном счете признательные показания подсудимой оказываются своеобразным компромиссом между самой подсудимой и судьей»[86]. «Компромисс» – важнейший термин, который задает в диалогических отношениях между историческими агентами логику торга, то есть такого диалога, где оба участника сохраняют свое противостояние и борются за его сохранение. Есть, однако, и другой вид диалога, который основан на тесном взаимопроникновении дискурсов, отзывающихся друг на друга каждым словом в контексте либо любовного сближения, либо полемического противоборства. Этот второй тип диалога, или «интертекстуальность», интенсивно изучается в последние десятилетия филологами, обычно с опорой на металингвистику Бахтина. Два типа диалога несовместимы, и их различие нужно четко сознавать[87]. Между тем К. Гинзбург в другой своей статье («Голос другого. Восстание туземцев на Марианских островах») фактически пытается их примирить и привлекает себе в союзники именно Бахтина:
В книге «Проблемы поэтики Достоевского» (1929) великий русский критик Михаил Бахтин проводит различие между текстами монологическими (или монофоническими), где доминирует более или менее скрытый голос автора, и текстами диалогическими (или полифоническими), где разыгрывается конфликт между противоположными мировоззрениями, а автор не принимает в нем ничью сторону. В числе примеров этой второй категории Бахтин называет диалоги Платона и романы Достоевского. Никому не пришло бы в голову поставить в один ряд с ними агиографическое по своим интенциям повествование вроде «Истории Марианских островов» Легобьена [иезуита XVIII века]. Однако сама идея представить точку зрения туземцев через речь Хурао [вожака мятежников] может рассматриваться как попытка ввести в книгу намеренный диссонанс, который включает в монологическое по основной своей сути повествование диалогическое измерение[88].
Гинзбург соблюдает все меры предосторожности: предостерегает против ценностного уравнивания книг Платона или Достоевского с сочинением французского иезуита, подчеркивает, что в этом сочинении делается всего лишь «попытка» ввести «диалогическое измерение» в «монологическое по основной своей сути повествование». Остается, однако, невыясненным главное – и важнейшее – различие между текстом Легобьена и диалогическим словом, как его мыслил Бахтин: в «Истории Марианских островов» голос Другого (в данном случае непокорного туземца) лишь включен в синтагматическую развертку текста, ему там выделено определенное место – фрагмент прямой речи, соответствующий речам «дунайского крестьянина» из бродячего притчевого сюжета, с которым Гинзбург блестяще связывает генезис данного риторического пассажа в книге французского иезуита. Напротив того, в диалогическом слове по Бахтину – или в интертекстуальном слове по Ю. Кристевой, предложившей расширенную трактовку бахтинского диалогического принципа, – чужое слово накладывается на слово основного рассказчика, коэкстенсивно ему, звучит непосредственно в нем самом, благодаря жестам микроцитации, речевой оглядки, агрессии, иронии (в частности, сократовской) и т. д. Этот процесс взаимопроникновения двух дискурсов делает диалогическое слово неоднозначным и открытым для бесконечной реинтерпретации; Гинзбург же заменяет его гораздо более однозначным процессом торга-словопрения, где каждая сторона – и иезуиты-европейцы, и туземцы-мятежники – последовательно и отдельно заявляет свою правду. Единственный момент, где гладкая протяженность этой двуролевой риторики дает «трещину», связан, по мысли историка, не со взаимоналожением разных дискурсов, а с нечаянным вторжением в дискурс конкретной референциальности, материальной реальности – в данном случае это пересказанные автором-иезуитом слова дикаря о крысах, которых европейские корабли завезли на их острова:
Анализировать стратегии автора за защитной стеной единственного текста было бы в каком-то смысле успокоительным занятием. В такой перспективе говорить о реальности, располагающейся по ту сторону текста, было бы чисто позитивистским ухищрением. Однако в текстах бывают трещины. Из той трещины, которую я нашел, возникает нечто неожиданное – полчища крыс, которые разбрелись по свету, этакая оборотная сторона нашей «цивилизаторской миссии»[89].
Нет сомнения в доброй воле исследователя, стремящегося с помощью понятия диалога объяснить становление первоначальных понятий о культурной относительности. И все же симптоматична осуществленная им редукция: принимая без рефлексии непроходимую преграду между словом историка и словом исторических лиц, микроисторик тем более не слышит диалогических интенций в речи последних. Если при анализе речевых взаимодействий, протекающих на «низком» уровне вроде инквизиционного процесса над ведьмой или еретиком, схема «торгового» дискурса оказывается вполне адекватным объяснительным средством, то при выходе в «высокую» письменную культуру, будь то даже не самое выдающееся историческое сочинение XVIII века, она сразу же оказывается недостаточной, и исследователь пытается эклектически усложнить ее, объединив с бахтинской теорией диалогического слова.
Ориентация микроистории на «индуктивную» причинность, действующую не на уровне макросоциальных процессов, а в частном опыте и сознательном горизонте исторического агента, предполагает повышенную ответственность последнего за свои слова и поступки: это его слова и поступки, они не навязаны ему никакими абстрактными сущностями. Но отсюда следует и еще один вывод: поступки индивида оказываются более весомыми, чем его слова, именно потому, что в поступках яснее, чем в словах, проявляется каузальный, а не смысловой детерминизм. Соотносясь с таким типичным филологическим жанром, как биография писателя, микроистория тяготеет скорее к событийной, чем к интеллектуальной биографии. И хотя в некоторых классических работах по микроистории, таких как «Сыр и черви» К. Гинзбурга, предметом исследования является говорящий и пишущий индивид – тем более интересный и «нормально исключительный» тем, что по социальному положению ему вообще-то полагалось бы молчать, – хотя биография этого философа-самоучки сопровождается внушительным историко-идейным комментарием, который сделал бы честь любому филологическому исследованию, вместе с тем некоторые другие работы того же К. Гинзбурга по истории идей и профессиональных идеологов (философов, писателей и т. д.) демонстрируют тенденцию сводить идеи ко внекультурным причинам. Речь идет о тех статьях, где осуществляется, порой с немалым блеском и аналитическим мастерством, обличение того или иного исторического – или даже историографического – дискурса, компрометируемого «истинными» мотивами его автора. И если, скажем, в случае колониалиста-прожектера XVIII века Жан-Пьера Пюрри, написавшего специальный трактат с теоретическим оправданием рабства в колониях[90], это обличение уместно, поскольку идеологическая направленность данного дискурса очевидна и нескрываема, то сложнее обстоит дело с теоретиками «постмодернистского» релятивизма, которых Гинзбург темпераментно обличает в предисловии к своей книге «Силовые отношения» (или, как она называлась в первом американском издании, «История, риторика и доказательство»).
Заменяя, как это ему вообще часто свойственно, теорию предмета его историей[91], Гинзбург разбирает «случаи» двух теоретиков исторического релятивизма – Фридриха Ницше и Поля де Мана. У обоих проповедь релятивизма симптоматическим образом (в смысле, какой слово «симптом» имеет в психоанализе, то есть в рамках уликовой парадигмы) связана с биографической двойственностью авторской личности: для Ницше это тяжело переживавшийся им «эдиповский» разрыв с христианством, для Поля де Мана – коллаборационизм во время войны, память о котором он пытался вытравить[92]. Гинзбург избегает прямых каузальных утверждений типа «был не в ладах с собой – поэтому и в истории проповедовал релятивизм», однако такая каузальная логика прозрачно выступает из общей тенденции его полемического предисловия: биографические сведения о теоретиках с очевидностью приводятся с целью дискредитации их теорий. При этом талант и историческое чутье даже здесь, в ситуации пристрастной полемики, не изменяют Гинзбургу: он нащупывает действительно важную проблему неоднозначности человеческой личности, ее права противоречить себе (в свое время Бодлер называл это право одним из до сих пор не признанных прав человека) и возможного несоответствия между «жизнью» и «творчеством». Но это уже проблема смысла, а не причинности, проблема филологии, а не микроистории, а объяснение Гинзбурга кажется предвзятым и трудно доказуемым: в конце концов, исторический релятивизм утверждали и утверждают многие теоретики – неужели у всех них следует доискиваться до какой-то более или менее постыдной раздвоенности?[93]