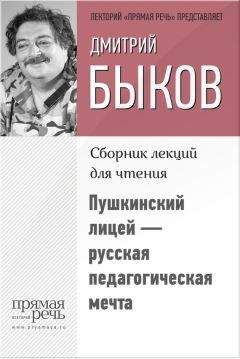Наум Синдаловский - Пушкинский круг. Легенды и мифы
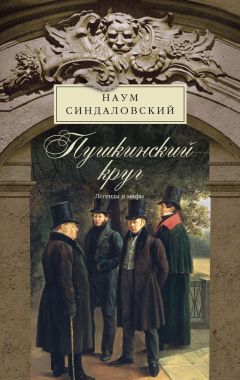
Помощь проекту
Пушкинский круг. Легенды и мифы читать книгу онлайн
Александр Федорович родился в 1845 году в Петербурге, точнее в Царском Селе, при обстоятельствах настолько загадочных, что они породили немало легенд. Будто бы его нашли однажды на рассвете подброшенным у одной из садовых скамеек Александровского парка. Отцом ребенка, согласно придворным легендам, был великий князь, будущий император Александр II, а матерью, понятно, одна из молоденьких фрейлин, чье имя навеки затерялось во тьме истории. В царском дворце поговаривали, что о тайне рождения подкидыша доподлинно знал лишь воспитатель наследника престола Василий Андреевич Жуковский, но и он сумел сохранить дворцовый секрет, хотя юношеская, подростковая, а затем и взрослая дружба сына Жуковского — Павла и Александра Отто могла бы, возможно, пролить кое-какой свет на происхождение найденыша.
В Петербурге Отто закончил гимназию, университет, побывал за границей, затем жил некоторое время в Москве, а с 1872 года окончательно обосновался в Париже. В это время он познакомился с находившимся тогда во Франции И. С. Тургеневым и вскоре стал его литературным секретарем. Там же, во Франции, не без влияния Тургенева, у Александра Федоровича обострилась давняя страсть к собирательству книг о Пушкине, его рукописей и предметов бытовой культуры, связанных с поэтом.
С легкой руки самого Отто появилась еще одна легенда, ореол которой сопровождал его всю долгую жизнь. Отто утверждал, что нашли его не просто в Александровском парке Царского Села, а под чугунной скамьей памятника лицеисту Пушкину, в церковном садике, известном в народе под именем «Ограда» (хотя на самом деле памятник поэту появился через много лет после рождения коллекционера). Мол, именно поэтому в нем с рождения зародилась беззаветная любовь к Пушкину. Теперь уже фамилия Отто, доставшаяся от крестной матери, его не устраивает, она ему кажется чужой и нерусской. Он взял псевдоним и начал подписываться: Александр Отто-Онегин. Но затем и это ему показалось недостаточным для памяти Пушкина, и он решительно отбросил первую половину псевдонима, оставив только Онегин. Под этой фамилией его знают буквально все пушкинисты мира. Но вдали от родины истинному петербуржцу Александру Отто и это кажется не вполне убедительным доказательством его подлинной приверженности к России и Пушкину. И тогда он даже позволяет себе представляться: «По географическому признаку — Александр Невский».
В 1883 году от Павла Васильевича Жуковского в руки Отто попали письма Пушкина к его отцу, затем все бумаги Василия Андреевича, относящиеся к дуэли Пушкина, а впоследствии и весь личный архив Жуковского. Парижская коллекция Отто, или, как он сам ее называл, «музейчик», очень скоро стала самым богатым частным собранием на пушкинскую тему. Его парижскую квартиру на улице Мариньян, 25, вблизи Сены (отсюда каламбур, привязавшийся к собирателю, который будто бы ведет себя со своим бесценным богатством как собака на сене) начинают посещать пушкинисты. Она вся буквально забита материалами о Пушкине. Один из посетителей «музейчика» впоследствии рассказывал, как он впервые пришел к собирателю. «„С какого места начинается собственно музей?“ — спросил он. „Вот кровать, на которой я сплю, — ответил Александр Федорович, — а прочее — все музей“».
Трепетное, восторженное отношение ко всему, что касается творчества великого поэта, не могло не перейти на саму личность Пушкина. Похоже, что Александр Федорович задним числом почувствовал себя в какой-то степени ответственным даже за то, что произошло в январе 1837 года. Сохранилось предание, что через 50 лет после трагедии Отто посетил Дантеса и без всяких обиняков прямо спросил его, как он пошел на такое? Дантес будто бы обиделся и удивленно воскликнул: «Так он бы убил меня!»
В 1908 году весь свой богатейший архив Отто передал в дар Пушкинскому дому Академии наук. Официальная передача затянулась на многие годы, а после известных событий октября 1917 года в России стало казаться, что она уже никогда не состоится. Но Отто остался верен своему решению. Он письменно подтвердил законность состоявшейся в 1908 году договоренности. Однако при жизни коллекционера реализовать передачу собранного Отто материала так и не удалось. В 1925 году Александр Федорович скончался. Когда вскрыли завещание, то выяснилось, что не только все свое имущество, но и все свои деньги Александр Федорович оставил Пушкинскому дому. Коллекцию передали в Ленинград в 1927 году, и с тех пор она хранится в Институте русской литературы — Пушкинском доме.
К сожалению, не все заканчивалось так благополучно. В истории пушкинских реликвий есть и печальные страницы. Так, безвозвратно пропали документы, принадлежавшие семье великого князя Михаила Михайловича. Михаил Михайлович — внук императора Николая I от его четвертого сына великого князя Михаила Николаевича. Он стал виновником невиданного семейного скандала, разразившегося однажды в доме Романовых. В 1891 году, находясь за границей, Михаил Михайлович женился на внучке Александра Сергеевича Пушкина, графине Софье Николаевне Меренберг. Ее родителями были графиня Наталья Александровна Пушкина-Дубельт-Меренберг и принц Николай Вильгельм Нассауский. Брак был неравнородным, и разгневанный этим поступком двоюродный брат Михаила Михайловича царствующий император Александр III объявил его недействительным, то есть не имеющим места, и запретил Михаилу Михайловичу въезд в Россию. Супруги навсегда остались в Англии.
В английском дворце Михаила Михайловича, говорят, хранилась шкатулка с документами о дуэли Пушкина и Дантеса и несколько писем Натальи Николаевны. Во время Первой мировой войны, опасаясь за судьбу этих бесценных сокровищ русской культуры, Михаил Михайлович решил лично передать их в дар Российской академии наук. Но царствующий император Николай II подтвердил запрет на въезд великого князя в Россию. Тогда, если верить фольклору, Михаил Михайлович отправил шкатулку морем, на британском военном корабле. Однако корабль, как утверждает легенда, потопили немцы, и бесценные документы пропали на дне Северного или Балтийского морей.
Юбилеи
Закоренелая большевистская привычка превращать любую дату в инструмент идеологической борьбы привела к тому, что даже даты смерти знаменитых людей в Советском Союзе превращались во всенародные праздники со всеми вытекающими отсюда последствиями — торжественными заседаниями, социалистическими соревнованиями, награждениями победителей, подарками и прочими атрибутами партийно-застольного веселья. Такой юбилей прошел в стране в 1937 году. Он был посвящен 100-летию со дня гибели Александра Сергеевича Пушкина. Интеллектуальная, думающая часть советского общества на это мероприятие откликнулась печальным, если не сказать, страшноватым анекдотом: «В 1937 году Ленинград широко и торжественно отметил столетие со дня гибели Пушкина. Ах, какой это был праздник!» — «Что ж, какая жизнь, такие и праздники».
Анекдотам можно и не доверять, но вот свидетельство официального советского пушкиноведения. В 1985 году в Ленинграде вышла небольшая по объему книга Б. М. Марьянова «Крушение легенды» с характерным для того времени подзаголовком: «Против клирикальных фальсификаций творчества А. С. Пушкина». Вся книга насквозь пронизана ссылками на В. И. Ленина и пропитана суровой большевистской нетерпимостью к какому-либо иному мнению. Так вот, на странице 78 можно прочитать о том, что «юбилей, который широко отмечали в 1937 году народы Советского Союза, перешагнул границы нашей страны, вылился в международный п р а з д н и к (выделено нами — Н. С.) культуры». И чтобы у читателя не возникло подозрения в случайности сказанного, скажем, что на странице 82 автор вновь возвращается к этой расхожей формуле: «Он (юбилей — Н. С.) приобрел характер поистине всенародного п р а з д н и к а (выделено нами — Н. С.) отечественной культуры…». В интерпретации советских авторов даже прямые потомки Пушкина говорили на том же большевистском новоязе. Вот как передает слова правнука поэта Григория Григорьевича Пушкина по поводу 100-летнего юбилея со дня гибели своего прадеда автор книги «Потомки А. С. Пушкина» В. М. Русаков: «Я участвовал во всех пушкинских торжествах. Был и в Ленинграде на открытии обелиска у Черной речки. <….> Ездил в Псков и в Михайловское. <…> Очень торжественно проходил праздник в Пскове». Так что фольклор тут ни при чем. Анекдот просто обострил ситуацию, довел ее до абсурда, с тем чтобы этот абсурд был понят окружающими.
Ленинградцы особенно остро чувствовали фарисейский подтекст этого мероприятия. Трагедия, случившаяся с Пушкиным в 1837 году, теперь уже без всяких усилий ассоциировалась с ужасами 1937-го. «Пушкин был первым, кто не пережил 37-го года», — говорили они и вкладывали в уста лучшего друга поэтов всего мира товарища Сталина короткую фразу с известным акцентом: «Если бы Пушкин жил не в XIX, а в XX веке, он все равно бы умер в 37-м». Согласно одному из анекдотов, Пушкин пришел однажды на прием к вождю всех времен и народов. «На что жалуетесь, товарищ Пушкин?» — «Жить негде, товарищ Сталин». Сталин снимает трубку: «Моссовет! Бобровникова мне! Товарищ Бобровников? У меня тут товарищ Пушкин. Чтобы завтра у него была квартира. Какие еще проблемы, товарищ Пушкин?» — «Не печатают меня, товарищ Сталин». Сталин снова снимает трубку: «Союз писателей! Фадеева! Товарищ Фадеев? Тут у меня товарищ Пушкин. Чтобы завтра напечатать его большим тиражом». Пушкин поблагодарил вождя и ушел. Сталин снова снимает трубку: «Товарищ Дантес! Пушкин уже вышел».