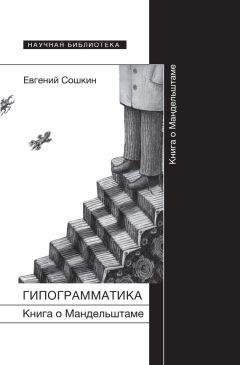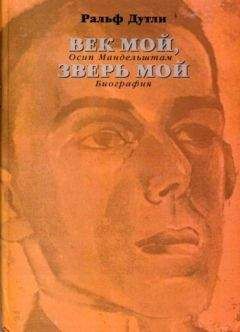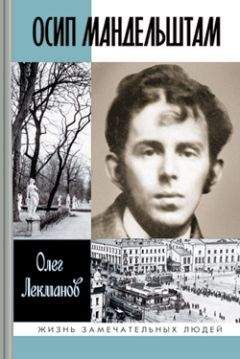Ирина Бушман - Поэтическое искусство Мандельштама

Помощь проекту
Поэтическое искусство Мандельштама читать книгу онлайн
Если для Мандельштама стихотворный размер создается не простым чередованием ударяемых и безударных слогов, а равной протяженностью отдельных групп слогов во времени, то легко объяснить особенности его ритмики. Стопа хорея может, как равноценная величина, — / — / — , заменить стопу ямба. Трехсложные стопы могут заменить друг друга, так как — / / — / / — / / — . Паузы в конце стихов и цезуры приобретают значение сейфов, из которых можно почерпнуть время, недостающее той или иной ритмической группе для создания изохронизма в стихе, поэтому в начале и в конце стиха и по обеим сторонам цезуры равно возможны замены трехсложных стоп как двухсложными, так и трибрахиями.
Мандельштамовское учение о ритмике не является автоматическим перенесением законов метрического стихосложения в область тонического или силлабо-тонического. Тем более не следует считать его какой-то насильственной операцией над русской речью. Изохронизм — органическое свойство русской народной поэзии, например былины, и в той или иной мере он всегда проявляется в дольниках русских поэтов. Мандельштам работает над ритмом, как заботливый садовник: он прививает дичку дольника родственные ему особенности метрической системы стихосложения, и облагороженные ветви приносят редкостные плоды.
В поэзии Мандельштама встречаются и произведения, по ритму сильно отличающиеся от классических. Стихотворение «Полночь в Москве»[92] написано меняющимися размерами, в основном белыми стихами, с отдельными «случайными» рифмами и выпадающими из размера прозаическими строками. «Нашедший подкову»[93] — пример чисто синтаксических ритмов. То, что эти размеры тоже построены на изохронизме, ясно на глаз и на слух, но два отдельных стихотворения — недостаточный материал, чтобы можно было исследовать технику Мандельштама в области синтаксического стихосложения. Дошедшие до нас стихотворения, написанные после 1932 г., не дают нового в этой области. Может быть эти опыты остались единичными.
Сохранились воспоминания современников, лично знавших поэта или присутствовавших на его выступлениях, о своеобразии его авторского исполнения собственных стихотворений. «Пел», — утверждают одни, «читал», — говорят другие, но почти все прибавляют «странно». Ясно, что при передаче собственных стихов он руководствовался античной манерой. Мандельштам называл русский язык эллинистическим, следовательно придавал особое значение музыкальному ударению. Для введения его в свой стих поэт, как заметил Иваск, пользуется применением риторического вопроса.[94] Может ли какое-нибудь неизвестное нам стихотворение Мандельштама явиться откровением в области использования музыкального ударения? Сам Мандельштам мог бы назвать эти гипотезы «гаданием по внутренностям жертвы», принесенной жестокому божеству, — добавим мы.
В области фонетики стиха приемы Мандельштама еще своеобразнее. Что он чутко улавливает созвучия и что для него не составляет ни малейшего труда сгруппировать их тесно в одном стихотворении и оперировать ими на протяжении любого числа строк, о том свидетельствуют как целые стихотворения, начиная от «Нежнее нежного»[95] в «Камне», до написанного в 1930 году «Лазурь да глина, глина да лазурь»,[96] так и бесчисленное количество отдельных строк. Но Мандельштам не любит злоупотреблять созвучиями. Он очень осторожен с аллитерациями, чаще всего применяет только самые неназойливые из них, аллитерации на сонорные, причем на «л», «м» или «н» чаще, чем на более заметное по своей раскатитости «р». Значительнно чаще он пользуется внутристиховыми ассонансами. В тех стихах, которые Мандельштам хочет особенно выделить, бывают одинаковы все ударяемые гласные, например:
«В огромной комнате над черною Невой»[97]
или ощущается выпуклость многократно повторяемого, не всегда ударяемого «а»:
«Она отмечена среди подруг повязкою на лбу»[98]
«Когда огонь в акрополе горит».[99]
Иногда в целом четверостишии одинаковы все первые ударяемые гласные (особый вариант единоначатия), например:
Кому зима, арак и пунш голубоглазый,
Кому душистое с корицею вино,
Кому жестоких звезд соленые приказы
В избушку дымную перенести дано.[100]
Но во всех этих случаях дело идет об отдельных, умышленно подчеркнутых стихах или (реже) строфах. В целом же для Мандельштама характерен как раз обратный прием «скрытой фоники»: не сближение сходных по звуковому строю слогов и слов, а их распределение на таком расстоянии, чтобы они не «толкались», не теснили друг друга, а давали между собой место другим звучаниям. При этом похожие созвучия возвращаются попеременно несколько раз, но очень редко повторяются подряд. В этой «перекличке на расстоянии» секрет музыкальности лирики Мандельштама:
Далеко в шалаше голоса — не поймешь, не ответишь.[101]
Этот стих в основном построен на полногласиях «ала» и «оло». Стих, построенный на той же фонической основе Бальмонтом, легко мог бы стать чрезмерно певучим. Регулярно повторяющиеся между полногласиями «ш» тормозят певучесть, не нарушая звучности.
К мастерскому использованию основной отличительной черты русского языка, его одновременного богатства и гласными, и глухими и шипящими согласными, Мандельштам пришел не сразу. Если бы кто-нибудь вздумал изучать фонетику русского языка только по материалам ранней поэзии Мандельштама, то мог бы вывести заключение, что русский язык состоит почти исключительно из гласных и сонорных и звонких согласных. Например:
Я качался в далеком саду
На простой деревянной качели,
И высокие темные ели
Вспоминаю в туманном бреду.[102]
В этом четверостишии на общее количество в 85 звуков приходится всего 15 глухих согласных звуков, которые так распределены между гласными и звонкими согласными, что теряют всякое влияние на звуковую окраску стиха. Шипящие, кроме более звонкого «ч», из него изгнаны, да и «ч» встречается только дважды. В ранней лирике Мандельштама можно найти много подобных примеров. При всем полногласии и исключительно малой пропорции шумов, она сохраняет упругость и не впадает в песенную певучесть. Сознательно или инстинктивно, ранний Мандельштам почти целиком изгоняет из своей фонетики звуки, не свойственные латыни.
Чуткий к фонетической природе каждого языка, Мандельштам не мог долго оставаться в рамках подобного рода бесспорно интересных, но все же искусственных экспериментов. Уже в «Tristia» он приходит к синтезу античной и русской фонетических структур; В 20-х годах Мандельштам пишет в своих литературно-критических статьях о значении согласных в русском языке и, как бы возражая сам себе, подчеркивает разницу между русским и латинским языками. Глухие согласные, шипящие и свистящие, как органическая часть русской речи, не могли остаться за бортом его поэзии. Но они строго регламентируются, применяются как противовес излишней певучести и только в пропорции, не нарушающей благозвучия. «Сестры — тяжесть и нежность — одинаковы ваши приметы» — пример соблюдения устойчивого равновесия между античной звучностью и своеобразием русской речи.
В представлении Мандельштама фонетика стиха неразрывно связана с семантикой. Поэт сам утверждает это в теории, называя согласные «звуками боли и нападения, обиды и самозащиты».[103] На практике шумы, особенно свистящие и шипящие, выпуклее, заметнее проступают у него там, где речь идет о боли, горе или смерти. Личное горе еще недостаточная причина для того, чтобы шумы взяли перевес. В «Соломинке», этой апологии личного горя, сухое шуршание «с», «ш», «х», «ж», и «з» еще уравновешивается многочисленными «оло», «ала» и «ила» и большим количеством «м» и «н» в сочетаниях с разными гласными — фонетическое отражение стройного сочетания страшного и прекрасного в умирании отдельного человека. Но в тех поздних стихах, в которых поэт касается угрозы, надвигающейся на все человечество, «мирные переговоры» между голосом и шумом сменяются ожесточенной борьбой за время в стихе. Мандельштам не изменяет свой любви к благозвучию, оно остается для поэта носителем божественного порядка. Шумы надвигаются как носители хаоса. Об этом свидетельствуют строки из стихотворения «К немецкой речи»:
Бог Нахтигаль, меня еще вербуют
Для новых чум, для семилетних боен.
Звук сузился. Слова шипят, бунтуют.[104]
Это стихотворение показывает, как чутко ощущал Мандельштам фонетическую структуру языков. Посвященное немецкой речи, оно отличается отсутствием полногласия и наличием большого числа стечений согласных, т. е. поэт выбирает слова максимально близкие фонетической структуре немецкой речи. О том, что это не случайно, свидетельствует заключение статьи «Заметки о Шенье»: «В поэзии разрушаются грани национального, и стихия одного языка перекликается с другой».[105] «Шипящими бунтующими словами», «суженными звуками» написаны многие из поздних стихотворений Мандельштама.[106] И это не отказ от прежних взглядов на фонетику стиха, а логическое развитие этих взглядов пред лицом насильно врывающегося в поэзию нового содержания. Обширное применение шумов в поздней поэзии Мандельштама есть продолжение его теории благозвучия, как война является продолжением мирной политики государства.