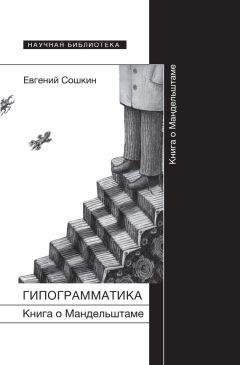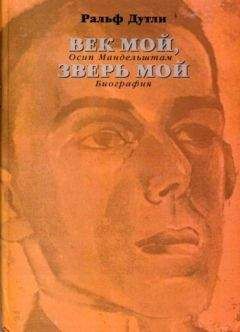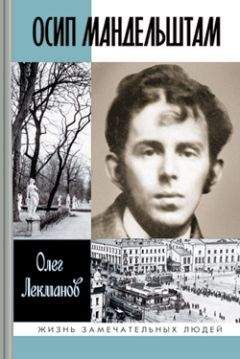Ирина Бушман - Поэтическое искусство Мандельштама

Помощь проекту
Поэтическое искусство Мандельштама читать книгу онлайн
Это стихотворение показывает, как чутко ощущал Мандельштам фонетическую структуру языков. Посвященное немецкой речи, оно отличается отсутствием полногласия и наличием большого числа стечений согласных, т. е. поэт выбирает слова максимально близкие фонетической структуре немецкой речи. О том, что это не случайно, свидетельствует заключение статьи «Заметки о Шенье»: «В поэзии разрушаются грани национального, и стихия одного языка перекликается с другой».[105] «Шипящими бунтующими словами», «суженными звуками» написаны многие из поздних стихотворений Мандельштама.[106] И это не отказ от прежних взглядов на фонетику стиха, а логическое развитие этих взглядов пред лицом насильно врывающегося в поэзию нового содержания. Обширное применение шумов в поздней поэзии Мандельштама есть продолжение его теории благозвучия, как война является продолжением мирной политики государства.
Рассматривая ритмику Мандельштама, мы до сих пор касались только малых и средних единиц — стоп, полустиший и стихов. Более крупная единица ритма, строфа, у него не только традиционна, но даже консервативна и в большинстве случаев предельно проста. Мандельштам большой мастер сонета, но он не слишком часто прибегает к этой изысканной форме. Стихотворения состоящие из двустиший и трехстиший, или из строф в 5, 6 и 8 стихов, а также из строф-абзацев с неодинаковым числом строк в общей сложности составляют немного больше трети его поэтического наследия. Основная масса стихотворений Мандельштама построена на четверостишиях, которые чаще всего и являются ее строфическим делением и редко объединяются в строфы из восьми стихов.
Рифма в четверостишиях чаще всего перекрестная, значительно реже опоясывающая, которой поэт особенно увлекался в ранний период творчества, реже всего парная. Мандельштам крайне редко опускает в четверостишиях рифмовку 1–3 и ограничивается рифмами 2–4. Белые стихи немногочисленны. В поздней поэзии Мандельштама чаще чем в ранней встречаются стихотворения без деления на строфы, фактически состоящие из четверостиший, с перекрестной рифмовкой. Возможно, что это изменение внесено переписчиками, по небрежности или из экономии бумаги.
Так как Мандельштам часто пользуется размерами, состоящими из двусложных стоп, а в размерах, состоящих из трехсложных, конечные стопы чаще всего бывают усеченными, то дактилическая рифма встречается у него не часто. Обычно в четверостишиях чередование мужских и женских рифм, несколько реже находим только мужские, еще реже только женские рифмы. Общее количество мужских рифм превышает общее число женских. Не только двусложные, но даже и односложные рифмы Мандельштама в большинстве случаев не обладают опорной согласной, например «поглядела — окаменела» и даже «городов — веков». В женских рифмах часто неполное созвучие ударяемых гласных: в одном слове мягкая, в другом соответствующая твердая, что нередко сочетается с уже упомянутым отсутствием опоры («водою-зарею», «перине — латыни»). Много чисто грамматических рифм, в том числе и глагольных, не только образованных одним и тем же окончанием личной формы глаголов (поют — отдают), но и неопределенной формой (беспокоить — строить).
Внимательное изучение рифм Мандельштама приводит к довольно неожиданному заключению. Рифмы Мандельштама традиционны и обычны, более того, они чаще всего незначительны. Число оригинальных находок мало по сравнению с массой более, чем обычного. При простом чтении, вслух или про себя, этот факт, благодаря исключительной красоте и звучности стиха в целом, может легко ускользнуть даже от самого внимательного читателя или слушателя.
В эпоху Мандельштама большинство поэтов культивировало рифму. Не говоря о блестящих открытиях Пастернака и гениально-дерзких выходках Маяковского, в области рифмы производил серьезные, почти научные изыскании Брюсов, изощрялись Бальмонт и Северянин, смело экспериментировала Цветаева, да и в народно-песенных рифмах Есенина было много свежего и нового. Акмеисты в целом не предавались культу рифмы, но и не чуждались поисков в этой области. Но Мандельштам, писавший мало и скупо, эстет в самом лучшем смысле этого слова, мастер фоники, почему он был так, казалось бы, небрежен к рифме, вполне отказаться от которой он совсем не имел намерения? Почему он включает в свою, в общем очень изысканную поэзию любую рифму, если только она подходит ему по содержанию, ничуть не смущаясь тем, что она была бы отвергнута большинством не только его современников, но даже предшественников как пример избитой (см. любовь — вновь в «Соломинке II») или даже просто плохой рифмы? Примеры заурядных или неполноценных рифм находятся и в лучших стихах Мандельштама. Почему эти «небрежные» рифмы не снижают качества его поэзии?
Под мнимым равнодушием Мандельштама к рифме несомненно скрывается система. Мастерски владея белым стихом, поэт ясно ощущал, что, благодаря естественным фонетическим различиям между древними языками и русским, белые стихи, написанные по-русски, всегда будут отставать по звучности от греческих или латинских. Кроме того, по любимому произведению своего любимого поэта Овидия «Tristia» Мандельштам видел, что классическая поэзия рождала рифму. В «Tristia» рифмы-ассонансы еще редки, но они уже не случайны. Если бы не настал конец эпохи, не прервалась бы в результате мировых событий без окончательного завершения вся греко-римская культура, латинская поэзия пришла бы к рифме, разумеется совсем в ином виде, чем рифма, появившаяся позднее в «вульгарной латыни». Продолжая прерванную линию, Мандельштам начинает там, где остановился Овидий, ведь «вчерашнего дня еше не было по-настоящему». Наличие рифмы увеличивает звучность русского стиха, поэтому Мандельштаму рифма нужна. Но неожиданная, слишком свежая, слишком новая рифма естественно обращает внимание на конец стиха. Являясь особой точкой притяжения, она разорвала бы ткань мандельштамовской поэзии. Поэтому Мандельштам ее избегает. Ему нужны замирание звука, уход в тишину, а не акцент на конце стиха, а потому ему нужна скромная, ничем не выделяющаяся рифма, не госпожа, а служанка, носительница негромкого благозвучия, не позволяющая себе возвысить голос, не самоцель, а органическая часть фоники. Поэтому, когда Мандельштама не удовлетворяют привычные рифмы, он ищет новизны чаще в области не четких рифм, а ассонансов, создающих на конце стихов легкие, напоминающие эхо, созвучия, подобные рифмам Овидия в «Tristia».
Частые повторения на протяжении стихотворения тех же самых слов или слов от одного корня, иногда довольно близко друг от друга («Соломинка I», «Сестры — тяжесть и неясность — одинаковы ваши приметы»), но чаще на некотором отдалении («1 января 1924», Грифельная ода) бесспорно играют большую роль в фонике Мандельштама. Также бесспорна и роль этих повторов в ритмике: они создают дополнительное семантико-ритмическое деление стихотворения, не совпадающее ни со стихом, ни со строфой, ни даже с синтаксическим ритмом внутри стиха или строфы. Но основное значение этих повторов относится к области образности, и к этому вопросу мы еще вернемся ниже.
V. Глагол — существительное — эпитет
Синтаксический анализ предложений, из которых состоят стихотворения Мандельштама, показывает, что в них мало обстоятельственных слов, выраженных наречиями. Это не случайное явление. В статье «Заметки о Шенье» Мандельштам пишет: «Распределение времени по желобам глагола, существительного и эпитета составляет автономную внутреннюю жизнь александрийского стиха, регулирует его дыхание, его напряженность и насыщенность. При этом происходит как бы «борьба за время» между элементами стиха, причем каждый из них подобно губке старается впитать в себя возможно большее количество времени, встречаясь в этом стремлении с притязаниями прочих. Триада существительного, глагола и эпитета… не есть нечто незыблемое, потому что они впитывают в себя чужое содержание и нередко глагол является со значением и весом существительного, эпитет со значением действия, т. е. глагола, и т. д.»[107] Сказанное Мандельштамом об александрийском стихе Шенье в значительной степени действительно для всей его собственной поэзии, в которой эпитет-определение тоже сильно выдвигается на передний план и как бы равноправен с главными членами предложения. Рассмотрим жизнь этой триады у Мандельштама, чтобы таким образом подойти к проблемам его лексики и синтаксиса.
Особенно своеобразна судьба глаголов. Ранний Мандельштам избегает их. Это особенно заметно в первых стихотворениях «Камня» с его обращениями, разрастающимися в целые четверостишия («Сусальным золотом горят»,[108] второе четверостишие), с длинными назывными предложениями («Невыразимая печаль»,[109] последнее четверостишие), безглагольными сказуемыми, с его целым стихотворением без единого глагола («Нежнее нежного»[110]). В одних стихотворениях этого цикла действие ускользает в эпитет-причастие: