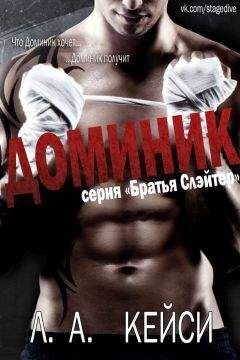Доминик Ливен - АРИСТОКРАТИЯ В ЕВРОПЕ. 1815—1914
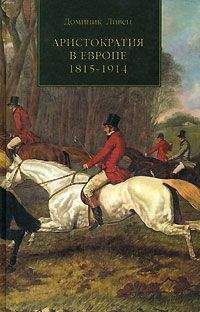
Помощь проекту
АРИСТОКРАТИЯ В ЕВРОПЕ. 1815—1914 читать книгу онлайн
До 1815 года как в Пруссии, так и в России аристократия не испытывала сколько-нибудь значительной конкуренции ни со стороны трона, ни со стороны церкви. Однако существенное значение имело то, что, если прусская церковь подверглась экспроприации в середине шестнадцатого века при весьма слабом короле, то в России похожий процесс начался лишь в середине восемнадцатого столетия, когда самодержавие Романовых окончательно укрепилось. В Бранденбурге из 654 церковных поместий, отошедших к королю в 1540 году при введении лютеранства, всего через десять лет 286 оказались собственностью дворян. Ничего подобного в России не произошло, и это было одной из причин, почему доля государственных земель в общем раскладе землевладения в России, по прусским меркам, была весьма велика. В восемнадцатом веке русский помещик-крепостник пользовался деспотической и почти неограниченной властью, какой в Европе не обладал ни один владелец «живых душ». Однако исключительным, по европейским меркам, было и число крестьян, приписанных к государственным землям, по отношению к помещичьим крепостным. В особенности на Севере дворяне-помещики встречались редко, а их усадьбы отстояли на значительном расстоянии друг от друга. В 1861 году, когда наконец произошло освобождение крестьян, менее половины их являлись собственностью частных лиц. В Пруссии королевские владения были куда как не столь обширны, а их размеры в разных частях королевства более или менее отличались. Так, в 1800 году в Силезии к королевским землям были приписаны всего семь процентов от общего числа крестьян, а в Восточной Пруссии — 55 процентов; в Померании же крупные прусские фермеры-арендаторы, хозяйствовавшие на королевских землях, представляли собой нечто совсем иное, чем русские крестьяне. В девятнадцатом веке прусский фермер вполне мог числиться в одном ряду с крупными землевладельцами капиталистического толка.
Как в Пруссии, так и в России главным конкурентом аристократии была монархия и созданная ею для выполнения своих приказов бюрократия. К 1815 году русское самодержавие вместе с весьма внушительным штатом бюрократии существовало уже несколько веков. Прусский абсолютизм создавался в семнадцатом (вторая половина) и восемнадцатом веках. Как русский самодержец, Петр I (1689–1725), так и прусский, Фридрих Вильгельм I (1713–1740), сумели ввести обязательную государственную службу для дворян, которых подчиняли строжайшей дисциплине, управляя ими железной рукой. Вплоть до 1815 года ни в России, ни в Пруссии в центре государства не было никаких представительных дворянских учреждений. Но, в отличие от России, в Пруссии были заведены дворянские учреждения на местах, в которых дворяне охотно служили, с глубоким почтением относясь к местному управлению и местным партикуляристским традициям[23].
Во всех государствах исторически сложившиеся отношения между монархией, дворянством, церковью, городами и крестьянством определяли, в значительной степени, роль и судьбу аристократии девятнадцатого века. Однако соотношение размеров исторического центра страны и ее окраин также нельзя сбрасывать со счетов. В некоторых государствах присоединение новых территорий могло усилить исконную аристократию. Именно так произошло в Вюртемберге и Баварии. В Англии, Пруссии и России получилось иначе.
Аристократия, чрезвычайно могущественная в Англии, пользовалась меньшим весом в Шотландии, не говоря уже об Уэльсе и Ирландии, где она воспринималась как чужеродный нарост. После избирательной реформы 1832 года консерваторам пришлось примириться с тем, что в Шотландии они стали постоянной партией меньшинства. В Уэльсе и Ирландии даже полудемократические выборы в 1867 и в 1884 годах привели к господству антиаристократических сил в местных политических кругах. В Ирландии выборы оказались предвестником экспроприации. Не далее как в 1910 году при столкновении между Палатой лордов и демократически избранным либеральным правительством английский электорат дважды, пусть и небольшим перевесом голосов, но возвращал к власти консерваторов. Судьбу пэров решили голоса шотландских, уэльский и ирландских избирателей.
Перед прусской аристократией стояла даже более сложная дилемма, частично потому, что, в отличие от английской, она не сумела добиться поддержки буржуазии и рабочих своей родной страны. К тому же, стремительное расширение Пруссии в девятнадцатом веке, сначала присоединившей к себе Рейнскую область и Вестфалию, затем Ганновер и, наконец, в некотором смысле, всю Германию, вызвало существенные трудности для юнкерства. Даже в пределах Пруссии, какой она стала после 1866 года, не говоря уже о Германии в целом, господствующее влияние юнкерства встречало противодействие со стороны тех сил, которым старые прусские традиции были не только чужды, но которые активно проявляли к ним враждебность. Эти силы могли быть представлены партикуляристами, католиками, либералами, крестьянством или социалистами и — в любом из регионов — их соединением. Учитывая глубоко укоренившееся в Германии разделение по конфессиональному и региональному признаку, не говоря уже о том, что объединение в 1866–1871 годах на условиях, продиктованных Пруссией, было в известной степени навязано силой, совершенно ясно, что перед прусскими традиционными элитами стояла исключительно трудная задача — сохранить свое господство в стране, которая в девятнадцатом веке не только встала на путь модернизации, но и с невероятной скоростью увеличила свою территорию.
Позиция русской аристократии была, что и говорить, еще слабее. В исконном черноземном сердце России, южнее Москвы, старая аристократия занимала крепкое положение. Но Россия быстро расширялась, присоединяя к себе новые территории. В 1760-х годах, например, в знаменитой законодательной Комиссии, учрежденной Екатериной II, когда аристократы из центральных губерний подняли голос за более строгий контроль над возведением в высшее сословие, им противостояло новое дворянство из Украины, часто казацкого происхождения и резко враждебное любому слову, исходящему от господствующей верхушки. В результате притока дворянства из соседних территорий и западных иммигрантов, принятых на царскую службу, русская аристократия утрачивала свою силу и монолитность. Более того, в значительной части самой России общество стало разномастным, а потому зыбким, лишенным уложений и твердой иерархии. В некотором смысле русское дворянство представляло собой нечто среднее между европейской аристократией и плантаторской элитой ante bellum[24], которая вобрала в себя как старых землевладельцев из Вирджинии, так и новых из Алабамы и Миссисипи. К 1900 году новым Фронтиром[25] (в американском смысле слова) для России была Сибирь, где практически не было дворян, но куда крестьяне-переселенцы прибывали толпами. Сибирь являлась для России аналогом Австралии и Канады вместе взятых, со всем тем, что это означало применительно к популистским и демократическим ценностям. Тот факт, что русская Австралия непосредственно примыкала к метрополии, облегчало задачи ее защиты от внешнего врага и позволяло предположить, что Россия останется великой державой еще долго после того, как рухнет английская заморская империя. Однако влиянию аристократии в русском обществе это отнюдь не благоприятствовало и ничего хорошего ей не сулило[26].
Сама структура высшего класса также воздействовала на его характер и роль. Между аристократией, в которой тон задавала небольшая группа несметно богатых собственников, и более широким кругом лишь относительно состоятельных провинциальных дворян существовала большая разница. Крупные аристократы были более космополитичны, лучше образованны и воспитанны — это особенно касается России и Германии начала девятнадцатого века. Провинциальные дворяне отличались узостью кругозора и привязанностью к одному определенному месту. Правда, они теснее общались с народными массами, чем вельможи, вынужденные, почти никогда не посещая многие из своих поместий, действовать через управляющих и приказчиков. В целом, крупному аристократу было легче вписаться в современный мир. Он, надо полагать, получал доходы не только со своих поместий, но и из других источников, что защищало его во времена сельскохозяйственных кризисов, позволяя снимать урожаи с капиталов, вложенных в акции, облигации и городскую собственность. Богатство, титулы и родовая слава гарантировали ему высокое положение в буржуазном обществе — положение, которое простому дворянину было недоступно. Именно поэтому многие крупные аристократы позволяли себе придерживаться более либеральных взглядов, чем провинциальное поместное дворянство. Свободомыслие стало до некоторой степени обычным в кругах французской аристократии в последние годы старого режима. И то же самое частично повторилось в Англии, России и Германии в девятнадцатом веке[27].