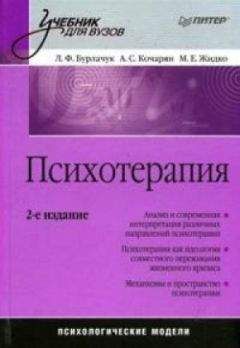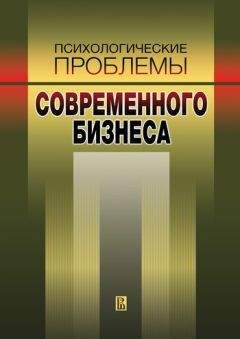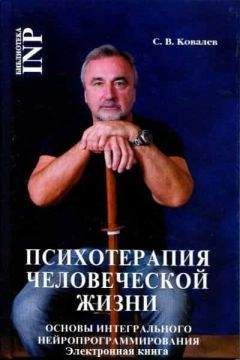Надежда Фёдоровна Калина - Лингвистическая психотерапия

Помощь проекту
Лингвистическая психотерапия читать книгу онлайн
Искусство терапевта состоит в умении понимать и адекватно реагировать на многообразие возможных прочтений дискурса клиента и своего собственного или, в лакановской формулировке, пользоваться властью символического, точно рассчитанными образом вводя его в семантические резонансы своих замечаний. "Первичный характер символов, – пишет он в "Функции и поле речи и языка в психоанализе", – сближает их на самом деле с теми простыми числами, из которых составлены все остальные; и если символы эти действительно лежат в основе всех семантем языка, то осторожно исследовав их взаимоналожения и воспользовавшись путеводной нитью метафоры, символическое смещение которой нейтрализует вторичный смысл сопряженных ею терминов, мы сможем полностью восстановить в речи ее способность вызывать представления" (38, с.65).
Пытаясь отыскать в речи клиента ответ Другого и наметить стратегию исцеляющего воздействия, терапевт исходит из того, что речевое вмешательство не только воспринимается субъектом в соответствии с его структурой (позицией в дискурсной формации), но и выполняет роль фактора, по-иному (а то и заново) структурирующего его (клиента) психическую реальность.[34] Лингвистический терапевт учит клиента рассматривать себя в отрыве от любой иллюзорной субъективности, формируемой пространством возможной речи (рассказа о проблеме). Он способствует расщеплению (splitting) застывшей, ригидной самоидентификации клиента с субъектом того способа психического моделирования реальности, который генерирует проблему. А для того, чтобы защитить клиента от полной дезориентации (ведь любую формулировку его высказывания о проблеме терапевт склонен рассматривать как несущую на себе следы влияния системы психологических защит), бессознательная основа речевого взаимодействия в процессе терапии повторяет конфигурацию приема, который Лакан называет "переходом".
Процедура перехода является ни чем иным, как постепенной сменой позиции говорящего субъекта внутри задаваемой его концептом жизненного мира дискурсной формации. "Вначале по одну сторону стены, отделяющей анализируемого от аналитика, переходит одна половина Эго субъекта, потом за ней следует половина оставшейся половины, и так далее; однако процесс этот протекает асимптотически, и сколь бы глубоко ни подействовал он на мнение субъекта о самом себе, у того всегда останется толика свободы, достаточная для возвращения на позиции, которые он занимал до того, как был сбит с толку психоанализом" (38, с.74). Свидетельства многих терапевтов, а также мой личный опыт показывают, что динамика перехода регулируется по большей части бессознательно, через дистанцию, которую нужно уметь сохранять по отношению к клиенту.
Лингвистический психотерапевт в той или иной форме опирается на семиологическую концепцию говорящего субъекта, понимаемого как операциональное сознание, производное от логических модальностей высказываний и диалогических отношений. Выражение значений и смыслов в передающихся между собеседниками предложениях имеет тетический характер, учреждающий трансцендентный объект (бессознательное) и трансцендентальное Я субъектов коммуникации (Другой и Символический Другой). Без признания этого фундаментального для эпистемы лингвистической философии факта любая рефлексия по поводу означивания в процессе терапии, отрицающая его тетический характер, будет последовательно игнорировать принуждающие[35], законодательные и социализирующие элементы дискурса психотерапевта и тем самым отрицать или "выносить за скобки" саму природу терапевтического воздействия.
Здесь следует сделать одну существенную оговорку, касающуюся "допустимых пределов" влияния лингвистической психотерапии. Артикулируемое терапевтом господство внеличностных языковых сущностей (семантики и прагматики) над дискурсом клиента, хотя и является репрессивным, возможно и необходимо лишь как подлежащий постоянному оспариванию предел. Ослабление или уменьшение такого принуждения минимизирует терапевтический эффект; однако терапевт в своем качестве пансемиотического субъекта сознательно препятствует функционированию своей речи в качестве провиденциального, идеологизирующего или целеполагающего дискурса. Анализируя и оценивания уже имеющиеся идентичности, слушая (и тем самым принимая) одни и игнорируя (отвергая) другие, он не должен создавать новых, поскольку это приводит к злоупотреблению силой трансферентного влияния. Психотерапевт может анализировать личную историю клиента, но он не создает в ней эпизодов, лежащих вне рамок, структурированных аналитическими отношениями.
Сказанное выше имеет непосредственное отношение к одному из важнейших аспектов лингвистической терапии – преодолению сопротивления. В отличие от устоявшейся психоаналитической традиции в лингвистической психотерапии при работе с сопротивлением используются преимущественно бессознательные механизмы. Поскольку сопротивление есть активный модус системы собственного Я, последнее требует в качестве референта Другого. Сопротивление, представленное в системе Я, исходит из невозможности реализации субъективной истины, укорененной в способе концептуализации клиента. Психотерапевт как Другой ставит под сомнение сопротивление, утрачивающее при этом свою целевую функцию – кому? зачем? во имя чего? Дискурс Другого порою содержит ответы на эти и подобные им вопросы до того, как они прозвучат на сеансе.
Сопротивление часто обусловлено конфликтом между требованием быть принятым и нравиться и желанием быть отличным от других. С одной стороны, клиент хочет повторно обрести воображаемое представление о действительности, которое присутствовало у него до начала работы, с другой – пытается отстоять свою независимость через отказ выполнять требования терапевта. Однако нарушение коммуникации в качестве следствия описанной выше стратегии речевого поведения наносит гораздо больший нарциссический ущерб, нежели признание желания, структурирующего аналитический дискурс. Фундаментальная оппозиция между удовлетворением от функционирования субъективной модели мира и неудовольствием, вследствие непризнания ее Другим (терапевтом), побуждает клиента подчиниться требованиями социального порядка, которые выражают желание Другого. Единственный способ, которым можно вытащить субъекта из его воображаемого мира проблем и двойственных отношений – это вмешательство третьего (языка) и репрезентируемый им лингвистический порядок, который трансцендирует сознание ищущего удовольствие индивида. Другими словами, символический принцип реальности замещает воображаемый принцип удовольствия непосредственно в процессе терапевтического общения.
В заключение следует задаться вопросом: на чем основывается бессознательное взаимодействие терапевта и клиента? Природа этого взаимодействия может быть описана через понятие фантазма, как он понимается в психоанализе – воображаемого события, в котором исполняется (обычно в искаженном психологическими защитами виде) бессознательное желание субъекта). Фантазм – это особый продукт Воображаемого удовлетворения посредством символизации запроса, обращенного к аналитику-Другому. Содержание запроса, обусловленное аналитической фрустрацией, символически приравнивается к успешной попытке означить желание.
Такая ситуация имеет место в случае, когда позиция аналитика маркирована избытком означающих, тогда как клиент испытывает их недостаток. Деятельность терапевта фактически представляет собой конструирование фантазма. Поскольку фантазм представляет собой не действие и не событие, а эффект смысла[36] в чистом виде, то основное различие целей участников аналитического взаимодействия проходит не в плоскости Воображаемого и Реального, а в семиотических стратегиях маркировки аналитической ситуации, действительного положения вещей (вне анализа) и эффектов смысла, обусловленных интерпретирующей речью.
Фантазм – как и событие, которое он представляет – является "ноэматическим атрибутом", отличным не только от объективной действительности, но и от психической реальности клиента, и от логических понятий. Сам по себе он принадлежит идеальной поверхности семиотического взаимодействия, на которой производится как эффект. Эта поверхность единого семиотического пространства терапевтического сеанса трансцендирует сознательные и бессознательные интенции клиента, поскольку ее основное топологическое свойство состоит в том, чтобы осуществлять контакт между Реальным и Символическим (минуя Воображаемое), соединив эти два регистра в одну плоскость, напоминающую одномерную поверхность ленты Мебиуса. Вот почему фантазм соотносится с двойной каузальностью причин производства высказываний: декларируемыми мотивами аналитика и квази-причинами речевых актов клиента.