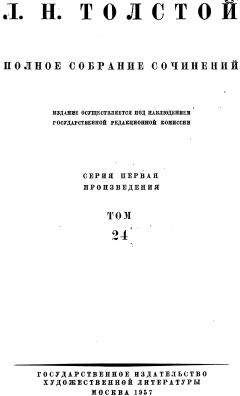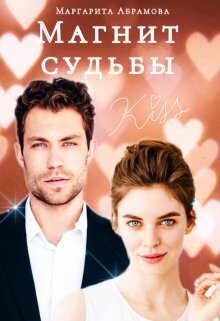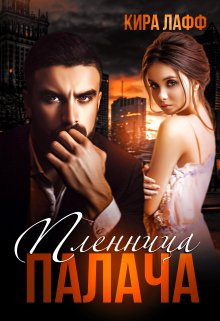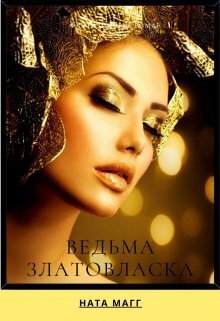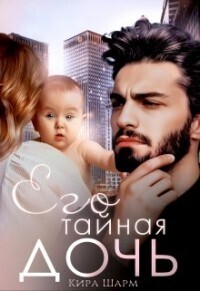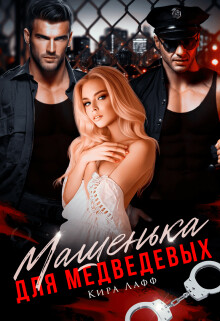Карен Свасьян - Человек в лабиринте идентичностей
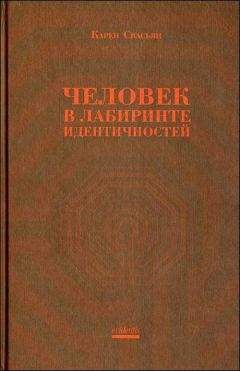
Помощь проекту
Человек в лабиринте идентичностей читать книгу онлайн
Идеализм ошибся временем; жизненный мир абсолютного, безграничного, безусловного фихте — шеллинговского Я стоит в знаке тональности не Плотина и Прокла, а «эготизма», рефлекторно реагирующего на всякое Я философски недопустимым, зато повседневно вполне естественным вопросом: чье. В этом и заключался диссонанс: Я, как понятие, не уживалось с Я, как фактом·, проблема Я, сколько бы и как бы о ней ни философствовали, упирается всегда в указательный палец, потому что (повторим это), в отличие от чтойного бытия, сознание и Я откликается только на кто и потом уже волею всегда конкретного какого — то кто переподчиняется анонимным философским абстракциям. Немецкий идеализм, отождествив Я с Богом, мог еще более или менее держаться на ногах, акцентируя в формуле её прямую, а не реверсивную связь, именно: Я — это Бог, но никак и ни при каких обстоятельствах не обратное: Бог — это Я, разве что как Я, которое есть (ist), а не как Я, которое есмь (bin). То есть, немецкий идеализм всё еще должен был держаться пути в Каноссу теологии, чтобы не упасть в нигилизм. Нигилизм — страж порога, отделяющего теологию от антропологии. Проблема трещит по швам уже у Фейербаха, пытающегося стать антропологом, обеими ногами увязнув в гегельянском небе. Бог Фейербаха — это Я, но без «указательного пальца»: старый фихтевский абстракт, ищущий себя очеловечить, но не находящий для этого подходящего человека. И только у Штирнера, а, позже, Ницше, проблема заостряется, наконец, в нестерпимо ярком фокусе адекватности, чтобы сразу же вывалиться из него в ночь и немоту бессилия.
6.
Опознать в «трансцендентальном Я» философов интериоризированного Бога теизма было не сложно — не сложнее во всяком случае, чем опознать в аристотелевских энтелехиях in re платоновские идеи ante rem. Фихте уже в «Наукоучении» 1801 года говорит «бытие» там, где он прежде говорил «Я», хотя в редакции 1804 года, открещиваясь от ложных понятий бытия, он подтверждает идентичность подлинного бытия с Я.[46] В немецком идеализме первых трех десятилетий XIX века теологическая идея человека испускает дух; после смерти Гегеля (1831) и провала шеллинговской позитивной философии (1841/42) человек зоологизируется с такой же непреложностью, с какой вселенная — параллельно — атомизируется. Времени, разделяющего оба состояния, до и после «смерти Бога», как раз хватило на час Штирнера, и мы не упустим из виду содержательнейшую симметрию судеб: выход в свет «Единственного» спустя три года цосле шеллинговской «Философии откровения» и смерть его автора за три года до выхода в свет дарвиновского «Происхождения видов». Штирнер — эрратический валун: при жизни и после смерти; характерно, что не сама поставленная им проблема отталкивала и всё еще будет отталкивать от него философов, а неслыханный радикализм решения. В проблеме — особенно после шелеровского и хайдеггеровского антропологического поворота — повязли, так и не опознав оригинал. Нужно перечитать однажды Сартра («Бытие и ничто», или summatim: «Экзистенциализм — это гуманизм»), чтобы увидеть расфокусированного Штирнера, притупляющего свою острую, как нож, диалектику в интеллектуальной скороговорке парижанина. Сартровский атеизм — «существование предшествует сущности» — стоит под знаком барресовского: «Je suis athée, mais naturellement je suis catholique» (я атеист, но я, разумеется, католик),[47] то есть, всё того же теизма, только в извращенном исполнении, от которого легче дойти до дарвинизма, чем до действительного гуманизма; сартровский человек — Бувар и Пекюше, поумневшие вдруг от чтения немецких мракобесов, — хочет стать Богом, а становится — «puisqu’il n’y a pas de Dieu» (потому что Бога нет) — всего лишь «бесполезной страстью». Ничего подобного у Штирнера нет и в помине; чем хочет быть его атеизм, так это а-теизмом, или абсолютной ликвидацией теизма, без лирики, тошноты и складок. Исходный пункт Штирнера — Я, не помысленное Я, а воплощенное: единичное и, в каждой единичности, единственное; на проблеме Я старая оппозиция общее — единичное застревает в себе, как в тупике, потому что, полагая Я, как единичное, и логически подчиняя его общему, сама она полагается — таки неким единичным Я мыслящего её философа. Я фихтевского «Наукоучения», полагающее не-Я, мыслит себя общим и абсолютным, то есть, Богом, но что при этом ускользает от его внимания, так это то, что и само оно положено, и положено не собой, каковым оно себя мыслит, а единичным, конкретным Я философа Фихте, который, при всей радикальности и смелости, не рискнул — таки опознать в своем эгологическом абсолютизме собственное творение и ео ipso себя. Можно догадываться, какими путями пошла бы западная философия, решись философ Фихте стать Штирнером до Штирнера и философски предвосхитить флоберовское: «Мадам Бовари — это я» (В фихтевской версии: «Абсолютное трансцендентальное Я — это я».) Философ усмотрит в версии курьез. Философ скажет, наверное: Quod licet Jovi, non licet bovi. Что позволено богемным богам, не позволено ученым быкам. Боги могут быть быками, быкам дано лишь мыслить богов. Но вот же, философ, которого меньше всего можно заподозрить в философских девиациях, Гуссерль, переступает черту — как раз на казусе Фихте. Гуссерль в «Кризисе европейских наук» (§ 57): «Полагающее самое себя Я, о котором говорит Фихте, может ли оно быть иным Я, чем Я самого Фихте?»[48] В этом опоздавшем почти на сто лет вопросе агонизирующая западная философия тщетно силится вспомнить свое называвшееся Штирнер déjà vu.
7.
В оппозиции дух — материя определяющим является дух, а определяющим самого духа мысль, мыслимая конкретным кем — то. Дух, в эпоху души сознания и естественнонаучного материализма, — не гегелевская мировая тень, грезящая на последней странице «Феноменологии духа» о своей Голгофе, а единичный фактический человек N. N., сознание которого проницает так называемое бессознательное, а внутренний мир расширен до природы и истории, так что он живет во внешнем, как в себе самом, и, говоря Я, имеет в виду себя, как другое и другого. Таким образом, если в сфере мира — как — природы (минеральное, растительное, животное) оппозиция общее — единичное определяется общим: понятием, покрывающим отдельные явления, то в сфере мира — как — истории (человек) эта роль переходит к единичному: не к мысли о единичном, как в виндельбандовско — риккертовском разграничении номотетического и идеографического, а к конкретному единичному человеку. Тема Штирнера, чтобы перестать быть философским посмешищем и стать философским pons asinorum, переносится в зону познания и осмысливается по методу Гёте. В гётевских «Изречениях в прозе» дан ключ к «Единственному и его достоянию». Гёте:[49]
«Что такое общее?
Единичный случай.
Что такое единичное?
Миллионы случаев».
В антропологическом прочтении:
Что такое понятие человек?
Единичный человек.
Что такое единичный человек?
Миллионы людей.
Когда мы продумываем эту формулу, мы слагаем из камер, залов, улиц, коридоров, переходов, развилок и тупиков лабиринтного пространства черты человеческого лица.
8.
Самопознание — синоним миро — познания, и вопрос: что есть человек? предваряется вопросом: что есть мир? Что же есть мир? Допустив, что ответ последует не в режиме отчужденного рассудка, а как переживание и представление, в тональности паскалевского le silence éternel de ces espaces infinis m’effraie. Будем идти по порядку. Я пишу эти строки за столом. Стол находится в комнате. Комната в доме. Дом в городе. Город в стране. Страна в Европе. Европа в мире. Где находится — мир? Вопрос нелеп, так как предполагает пространственную размещенность, а мир не может быть в пространстве. Будь мир в пространстве, он был бы меньше пространства, но быть меньше чего — то мир (вселенная, всё, das All), не может, и оттого не мир лежит в чем — то, а что — то в мире, соответственно: не мир находится в пространстве, а пространство в мире. Равным образом и время. Не мир (возник и свершается) во времени, а время в мире. Фридрих Теодор Фишер[50] абсолютно корректно заметил, что «мир не мог быть сотворен, потому что категория причинности имеет силу только в пределах целого, а не для целого». Как возникший, мир должен был бы иметь причину, лежащую до и вне его, — но у мира нет ни «до», ни «вне», и оттого его возникновение остается очередным логическим ляпсусом, с которым лучше всего справляются, когда не обращают на него внимания. Пространство и время суть свойства мира, которыми он пользуется, чтобы войти в явленность и, явив себя в пространстве и времени, быть уже не просто процессом, но мыслью о процессе. Что же такое мир? Ответ на этот вопрос мы получаем, если параллельно ставим вопрос: где, когда и в чем мир становится целым и законченным? Самое интересное, что мы уже получили ответ, и нам остается лишь осознать это. Ответ в самой возможности вопроса. Воспринимая через органы чувств мир явлений, мы оттого и не воспринимаем мир, как таковой, что никакие органы чувств не порождают в нас извне, из чувственно данного, потребности спросить: что такое мир. Мир, как действительность, как целое, возникает и существует в познании. Мы тщетно стали бы искать мир, как таковой, иначе, чем в познании. Мир — это познание. Познание — modus essendi мира, его интеллигибельное пространство, вне которого и без которого никакого мира нет и просто не может быть. Чтобы познание мира не застряло в абсурде агностицизма, надо помнить, что, познавая мир, мы познаем само познание, и что если термин «самопознание» вообще имеет смысл, то не как интроспекция влюбленных в себя Нарциссов, а как познание вещей. Беря статически: совокупности (целокупности) всего, что было, есть и будет. Динамически: всего, что становится. Можно сказать и так: некоего развивающегося в миллиардах лет свершения. Вопрос не заставляет себя ждать: свершения чего? Что' именно развивается как мир? Предположив, что ответ ищется не в спекуляциях, а продиктован очевидностью. Спекуляцией было бы, к примеру, допусти мы существование некоего иного мира, который лежал бы в основе этого, как его скрытая и истинная причина. Что при этом ускользнуло бы от нас, так это то, что иной мир стал основой нашего этого не иначе, как через наше же мышление, которое принадлежит этому миру и действительно только в нем. Нам пришлось бы в таком случае искать скрытую основу не только мира, но и мышления, отчего нелепость поиска удвоилась бы, потому что искать воображаемую причину мышления мы должны были бы с помощью самого мышления. Итак, мы держимся очевидного и повторяем вопрос: что свершается в мире как мировой процесс? — Естественная история творения различает живую природу и неживую природу в совокупности четырех царств: минерального, растительного, животного и человеческого. Если я беру за основу именно эту структуру, усомниться в которой невозможно, находясь в здравом уме, то вопрос о субъекте мирового свершения переносится мной, таким образом, из спекулятивного в эмпирическое, потому что исходным пунктом рассуждений оказывается данное в чувственном опыте, для которого я не нуждаюсь ни в метафизике, ни в теологии, ни в мистике. Это четырежды — минерально, растительно, животно и человечески — данное и есть отправной пункт моих рассуждений; если я называю миром всё — что — ни — естъ, то не иначе, как в сиюминутном акте переживания некоего единства, в котором я и различаю задним числом названные четыре царства. Можно возразить, что здесь смешиваются понятия «природа» и «мир». Леонард Нельсон в тонком анализе кантовских антиномий усмотрел причину последних как раз в этом смешении. Природа, по Нельсону, — совокупность предметов возможного опыта, а мир — абсолютное целое всех существующих вещей. Нельсон:[51] «Смешение этих понятий приводит к допущению некоего „чувственного мира“, как абсолютного целого всех существующих вещей в пространстве и времени. Из этого допущения необходимо следует ряд противоречащих друг другу высказываний, в зависимости от того, делаются ли выводы из заключенной в понятии природы предпосылки бесконечности или из содержащейся в понятии мира предпосылки тотальности. Таким образом, антиномия берет свое начало не в математическом понятии бесконечности, как это часто описывают, и не в идее мира, как по недоразумению полагают другие, а единственно в применении этих обоих понятий к одному и тому же предмету». Оставляя в стороне значимость упомянутой дистинкции для снятия кантовского антиномизма и перенося её на нашу тему, заметим лишь: её возможность лежит в допущении того, что не все существующие вещи в их абсолютном целом (= мир) могут быть предметами возможного опыта (= природа). Иными словами, природа оказывается здесь не только меньше мира, но и качественно различной с ним, что значит: природа — это мир в эмпирическом срезе, а мир — это абсолютное целое всего, что существует, о котором нам непонятно откуда известно не только, что оно 1) абсолютно, 2) целостно, 3) существует, но и, прежде всего, что оно выходит за границы возможного опыта. Откуда всё — таки известно? Как можем мы знать то, чего мы не можем познать? Модель полагания всё та же, что и с кантовской «вещью в себе». Кант, как известно, каким — то парафилософским образом знал, что «вещь в себе» есть, более того, он знал, что о ней ничего нельзя знать. Это petitio principii так и осталось «скелетом в шкафу» критической философии. Можно спросить, а куда относится сама дистинкция природы и мира, допустив, что и она существует. Очевидно, что не к природе, как данности минерального, растительного, животного и минерально — растительно — животно — человеческого (φύσις), а к миру, как мысли (μετά φύσις). Потому что если мир есть абсолютное целое всех существующих вещей, то было бы нелепо искать это целое где — нибудь еще, кроме как в познании и как познание. Иначе говоря, если все вещи существуют в абсолютном целом, которое есть мир, то само абсолютное целое существует только в мысли и только как мысль. Отсюда следует, что природа и мир не смешиваются, а различаются в единстве мирового целого: мир — это, если угодно, удвоенная природа: один раз, как природа естествоиспытателей, завершающаяся на биологическом человеке, другой раз, как продолжение этой природы в сознании и душе человека: в абсолютном целом всех существующих вещей. При этом у нас нет никаких оснований разделять симультанный единый мир и мир, разложенный в пространстве и времени, понимая под первым то, что свершается и именуется либо идеей, либо материей, а под вторым процесс свершения, или непосредственно данный чувственный опыт. Делающие это философы сначала находят явления мира в их разнообразии и уже потом задним числом примысливают к ним какую — то трансцендентную, не данную в опыте, идеальную или материальную, мировую сущность. Это и есть образчик догматической спекуляции, после которой философии не остается иного выхода, как быть служанкой — теизма или атеизма, всё равно. Я говорю себе: либо данное само приведет меня к собственной сущности, либо мне придется выбирать между бессмысленным миром и миром измышленным. Иными словами: я отказываюсь познавательно иметь дело с каким — либо чувственно данным процессом мира, сущность которого либо платонически галлюцинируется в каком — то наднебесном топосе, либо, под именем аристотелевской энтелехии, взаймы дается вещам на время их земной жизни. Есть только одна сущность, одна душа: сущность мира, душа мира, которая едина во всех раздельных и различных вещах, и если брошенный камень падает на землю, а церковная люстра качается, то обязаны они этим не своим выдуманным сущностям, а мировым законам. Мир дан мне в наблюдении, но, поскольку наблюдение ограничено во времени и пространстве, мир предстает мне парциальным и фрагментарным. Самое важное при этом не отделять мыслимый мир от его наблюдаемых фрагментов, по типу: камень в мире, растение в мире, зверь в мире. Мир не склад и не хранилище, в котором инвентаризированы мировые вещи. Когда — то философ Локк объяснял сознание по аналогии с пустым помещением (empty cabinet). Конечно, это нелепая шутка, тем более нелепая, что возведена она в ранг философской классики. Я воспринимаю вещи, как находящиеся в мире, потому что в чувственном восприятии мир явлен пространственно. Подобно тому как состояния сознания не находятся в сознании, а суть сознание (радость или печаль, которую я испытываю душевно, и есть сама душа), данности мира суть сам мир. Мысля вещи, я мыслю их — как мир. Мир, как камень, мир, как растение, мир, как зверь, — но и мир, как пространство, что значит: вещи, которые находятся в мире, понимаются адекватно, если параллельно они понимаются как мир. Субъект развития, как и объект развития, есть, стало быть, сам мир. В качестве объекта, он наблюдаем, а в качестве субъекта — мыслим. Понятно, что если, как объект, он есть всё (das АП), то субъектом он становится только в своей человеческой аватаре. Спящий себя в камне, сновидящий себя в растении, ощущающий себя в звере, мир в человеке — как человек — развивает себя до мыслящего сознания в перспективе осознания себя в истории собственного становления и самосознания. Цена, которую ему приходится платить за эту возможность, означена другой, параллельной, необходимостью: осознавая себя, он открывает в себе способность заблуждения, и, что особенно интересно, невероятного упорствования в своем заблуждении.