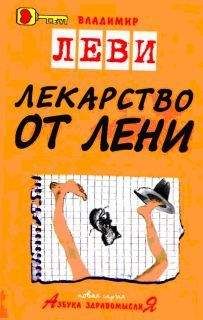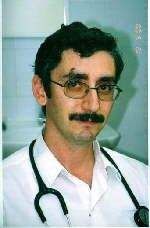Евгений Елизаров - Requiem

Помощь проекту
Requiem читать книгу онлайн
Может быть оттого, что самая острая боль, которая была назначена мне, была на самом деле пережита ею? Ее ли любовь охранила меня?..
Оглядываясь назад, сегодня я обнаруживаю, что все эти годы мою душу формировали не только мои книги, но и эта ее тайная власть надо мной, ее неизъяснимая способность менять нравственную природу событий вокруг всех, кого она хранила.
Вечная тайна творчества открывалась мне новым, ранее неведомым, своим измерением...
Сегодня я уже в состоянии иногда не только абстрактно, холодным сознанием, но и самым сердцем понимать все еще непростую для меня истину: созидательно лишь то, что движется одной любовью: "если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я - медь звенящая, или кимвал звучащий".
И все же: в чем вечная тайна зачатия? Ведь не может же быть оправдан земной путь одних только тех, кому изначально было даровано самим сердцем до конца понять это. А в чем назначение остальных, таких, как я?
(Я в самом начале назвал себя неудачником, но это прежде всего от сознания того, что так и не смог сделать счастливой эту все годы хранившую меня женщину. Я по-прежнему не знаю в чем мое назначение на этой земле; может быть, та дорога, которой идет каждый из нас, и есть дорога обретения искомой правды, но если бы сегодня я имел возможность выбирать, я выбрал бы путь служения ей...)
С рождением нашего сына именно он стал центром всей ее Вселенной.
Я снисходил к нему - она все время была рядом с ним. Помня собственное детство, я никогда не посягал на все те милые глупости, которые составляют какую-то особую ценность для ребенка. Но это было только снисходительное великодушие взрослого...
Лишь глядя на нее я учился понимать вещи, исполненные, как я теперь вижу, глубоким, едва ли не философским, смыслом. Мы жили на Петроградской, у самого "Великана", и летние солнечные дни часто проводили на пляже у Петропавловской крепости, в самом центре ослепительной гармонии воды и камня. Вот там на песке у Трубецкого бастиона, нашем обычном месте, мне впервые и бросилось в глаза то, с какой осторожностью тысячи беззаботных людей, целый день снующих по пляжу, обходят возведенные каким-то ребенком постройки; все эти куличики, домики и даже целые замки из песка уже давно оставлены и забыты им, но люди по-прежнему инстинктивно сторонятся их, боясь разрушить обрамленный блистательнейшими творениями лучших зодчих Европы чудом творчества запечатленный слепок с живой души маленького человека.
Для нее все его поломанные пистолеты, разноцветные пластмассовые солдатики с давно оторванными головами, мятые фантики, дурацкие вкладыши в такие же дурацкие жевательные резинки были столь же священными, сколь и все мои книги. Может быть, и не отдавая себе отчета в какой-то ясной, отлитой в строгие понятия форме, она осознавала, что не только у каждого человека, но и у каждого возраста - своя правда. Все его детские обиды, потери и разочарования переживались ею с такой же остротой, как и раны шекспировских героев, его детские открытия в ее глазах были равнозначны расшифровке египетских иероглифов или решению апорий Зенона. Одним из постулатов ее собственной, не bqecd`, согласной с началами обиходной этики, системы было убеждение в том, что маленькая правда маленького человека абсолютно равноценна всем великим истинам всех убеленных сединой стариков. И поиск этой маленькой правды каждым маленьким человеком в ее глазах всегда уравновешивал искания всех тех, кто был духовным символом для меня и моих, как правило, мысливших только масштабами всего человечества друзей.
Лишь глядя на нее я учился не снисходить, но уважать нашего сына...
Я смотрел на мир как на огромное ристалище, жизнь - это борьба, - как попугай, твердил я вслед за кем-то, и путь мужчины открывался мне только в свете состязательности и соперничества: дело мужчины стать первым в своем ремесле - долгое время было искренним моим убеждением. Для нее же в любой состязательности таилось что-то смутно враждебное...
В сущности только недавно я стал понимать, что абсолютизация соревнования есть скрытая форма отрицания всего индивидуального. Ведь оно неизбежно ведет к образованию какой-то иерархии, и через это в глазах большинства достойными уважения оказываются лишь те, кто сумел подняться ближе к самой вершине стихийно образующейся людской пирамиды. Все то, что тяготеет к ее основанию, скрыто осознается нами своеобразным отходом, браком, и содеянное аутсайдером становится чем-то вроде шлака человеческой истории, если не сказать образней и жесточе: той самой кучей навоза, с которой так ярко и выигрышно контрастируют жемчужины героических свершений призеров.
В животном мире аутсайдер теряет право на оставление потомства, и все то, что составляет достоинство его генотипа, выпадает из единого генезиса вида. Вот так в глазах многих и в формировании человека свой след оставляет только сильный - слабый канет в безвестность; все откровения его опыта оставаясь невостребованными никем, даже близкими, выпадают из формирования духовного опыта поколения.
Все это означает, что слабые и побежденные, мы оказываемся нужными истории отнюдь не как суверены, но только как питательная среда, как нечто, унавоживающее великих. Именно болезненное нежелание раствориться в этом позорном для большинства нечто и заставляет нас вступать в непрекращающуюся гонку за лидером... Впрочем, даже аналогия с благодатным гумусом не способна примирить нас с долей побежденных.
Но что суть победитель? Первый среди равных? Но, равенство с побежденным делает победу лишь относительной - мы же грезим только об абсолютном; сильные, мы ищем доказательств совершенной исключительности нашей природы. Состязание - это всегда погоня за призраком исключительности, и гимном именно ей звучит многое в европейской культуре. Так, уже в самом начале генеалогия греческого героя восходит к небожителям; античный герой - всегда потомок одного из бессмертных, и когда Платон и Александр провозглашали свою генетическую связь с олимпийцами, это ничем не противоречило традиции эллинского духа.
Между тем итог осознанной исключительности страшен. Ведь стоит хотя бы на одно мгновение представить себя одиноким и единственным во всей Вселенной (а исключительность, в конечном счете, предполагает именно это), как тут же исчезают любые критерии добра и зла, растворяется всякое представление как о совести, так и об истине, любое изъявление собственного духа, собственной воли предстает как некий обязательный для исполнения всеми и всем Логос. (И вот вопрос: пребывающий в совершенном ndhmnweqrbe среди абсолютного Ничто в еще не созданном Им мире, знает ли Создатель о добре и зле? Знает ли Он ответ на вечный вопрос о том, что есть истина?)
Вдохновением поэта и проницательностью философа Ницше отчетливо разглядел именно этот результат извечной культурной традиции, канонизирующей победителя; именно такая канонизация ведет его и к выводу о том, что христианская нравственность - это утешение лишь слабых и ущербных.
При исключительности победителя все представления о человеческом роде, как в фокус, сводятся к определениям одного героя, и только его путь предстает как путь абсолютной истины. Все остальное, как отряхаемый с его ног прах, теряет всякую значимость. Но ведь тем самым лишается необходимости и атомарная организация мыслящей материи: если на деле есть лишь один (и только где-то там, внизу, в пыли под его ногами - всепланетный солярис убогих), то оправданным оказывается лишь зачатие героя... Но зачем же тогда миллионы и миллионы суверенных монад? Зачем Господь сотворил человека не обезличенной мыслящей слизью, не всеспособным победительным субъектом, могущим одолеть все, но в виде бесконечного множества слабых полных неодолимого страха перед смертью, да и перед самой жизнью, индивидов?
Я понял это, но вывод вновь граничил с дерзостью: смысл бесконечного умножения индивидуального - в абсолютном исчерпании как поиска добра, так и происка зла...
Мне долгое время было загадкой, почему замысливший человека бессмертным, Создатель вдруг обрекает его на обращение в прах; только ли в том дело, что прародители наши соблазнились яблоком с древа познания, если именно познание вменялось в прямую обязанность Адаму?
Нет, это не оговорка. Богодухновенность Библии отнюдь не исключает известной свободы священнописателя, запечатлевающего Его Слово. Но человек своего времени, живший в определенной среде и подчинявшийся именно тем навыкам мысли, которые сложились в ней, Божие духновение он излагал языком, обычным для себя и для своего окружения. Поэтому глубинное содержание библейских понятий во многом отлично от сегодняшнего значения обиходных наших слов. А значит, оперировать сегодняшними представлениями для постижения подлинного смысла ключевых знаков Писания нельзя. На собственном же языке священнописателя Добро и Зло - означали собой не категории обиходной этики, но синоним всего сущего. Впрочем, даже не так: строго говоря, и в Библии все сущее - это простая материализация этического, ибо все сущее сотворено Им, а в глазах человека сотворенное Им не может быть этически нейтральным. Но здесь явственно различаются еще и обертона древней языческой культуры, в которой Добро и Зло - это полярные проявления изначально противостоящих друг другу сил: если в первом воплощается гармония светлого замысла творящих этот мир богов, то во втором - мрачная стихия Хаоса и его чудовищных порождений. (И вот вопрос: если все языческие племенные боги - суть разные имена Одного, если все сущее - это Его творение, то что же: фиксируемая античным мифом изначальная борьба стихий, это Его преодоление самого Себя?!)