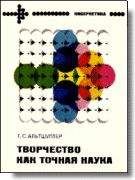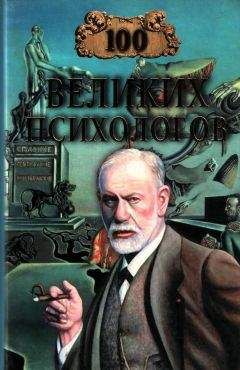Лев Куликов - Психология личности в трудах отечественных психологов
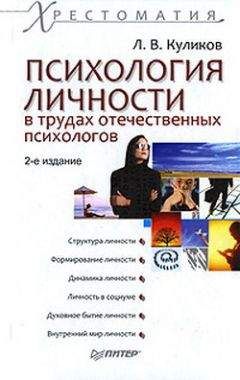
Помощь проекту
Психология личности в трудах отечественных психологов читать книгу онлайн
Во всех ближних мы главным образом любим и оберегаем их духовную личность, их психическую жизнь.
Отсюда выясняется новый положительный признак той «мировой творческой воли», которая в нас живет и влечет нас к созиданию мировой жизни в ущерб нашей собственной. Это не просто «творческая воля к жизни», к механическому ее умножению и сохранению, а «неудержимое стремление к созиданию, развитию и увековечению жизни духовной, высшей психической жизни в мире» – это, другими словами, стремление к одухотворению мира, к духовному его совершенствованию.
И для того, чтобы в этом окончательно убедиться, мы коснемся третьей и последней области поступков, признаваемых несомненно нравственными, – тех действий, которые касаются так называемой личной нравственности и внушаются нам чувствами чести и нравственного достоинства.
К чему направлены нравственные предписания: не предаваться плотским излишествам, не лгать и не обманывать, не трусить и не малодушничать, не делать низостей и подлостей, не отчаиваться и не лишать себя жизни.
Все эти задачи имеют нравственный смысл лишь настолько, насколько направлены к обереганию, спасению и развитию в нас самих нашего «лучшего духовного я» – той самой творческой силы, созидающей и улучшающей жизнь в мире, которая лежит и в основании всей нашей общественно-нравственной работы. Ради этого начала своей высшей духовной деятельности мы готовы часто пожертвовать и своей животною индивидуальностью или умалить и ограничить ее проявления. И напрасно современные позитивисты смеются над всяческим аскетизмом: здоровый аскетизм есть именно путь к широкому развитию творческих сил человека – он освобождает духовные силы наши от гнета и цепей материальной жизни. Аскетизм, конечно, есть не цель, а только средство, но это – низшая ступень того же самоотречения и индивидуального самопожертвования, которые заставляют некоторых людей ради идеи отказываться от удовольствий, выгод, подвергаться осмеянию, поруганию, даже насилию – идти в темницы и на костры. Во всех этих случаях мы спасаем «свое духовное я» и умаляем или совершенно отдаем в жертву свою индивидуальную волю к жизни, свой эгоизм. ‹…›
Из всего изложенного выяснилось, что психологически главным устоем нравственной жизни и деятельности является в нас мировая воля к жизни духовной, мировой инстинкт самосохранения жизни духовной, психической, высшей. Главных четыре положительных признака этой мировой воли, которая внушает личности человека ее нравственное поведение, как мы видели, следующие: 1) это – сила, созидающая, оберегающая и спасающая жизнь вне индивидуума – в мире, 2) это – сила, враждебная индивидуальной воле к жизни – эгоизму и животному инстинкту самосохранения, 3) это – сила, стремящаяся к бесконечной полноте и совершенству своих воплощений, реальных и идеальных, 4) это – сила, направленная преимущественно к созиданию и совершенствованию духовной, идеальной жизни мира. Поэтому ее можно определить как «мировой инстинкт, или волю духовного самосохранения и саморазвития», заложенный в природу всех его живых существ, но достигающий полноты самосознания только в человеке и проявляющийся в его нравственной жизни и деятельности.
В первой области – чувства – духовно-творческое начало обнаруживается чувствованиями любви, сострадания, жалости по отношению к другим живым существам – чувствамистыда, нравственного достоинства, чести; по отношению к собственной жизни личности – чувствами любви к правде, истине, красоте, добру или духовному совершенству вообще, по отношению к миру, как целому, а на высшей ступени – любовью к Богу, как высшему источнику или идеальному символу абсолютной правды, красоты и совершенства.
Во второй области – мысли – то же начало проявляется в идеях самоотречения, самопожертвования и безусловного нравственного долга – долга создавать, оберегать, поддерживать, умножать и возвышать духовную жизнь мира в ущерб своей личной жизни.
Таковы главные устои нравственной жизни человека, находящиеся внутри его и сводящиеся к одному общему принципу – «мировой воли к жизни высшей духовной, которая есть и мировая любовь, и мировое сознание безусловного нравственного долга». Очевидно, личность человека не есть только его животно-психическая индивидуальность, а сочетание этой последней с мировым духовным началом, с божественною творческою силою, создавшею мир, и в этой последней находятся корни всей нашей нравственной жизни.
Смысл жизни[78]. С. Л. Франк
Имеет ли жизнь вообще смысл, и если да – то какой именно? В чем смысл жизни? Или жизнь есть просто бессмыслица, бессмысленный, никчемный процесс естественного рождения, расцветания, созревания, увядания и смерти человека, как всякого другого органического существа? Те мечты о добре и правде, о духовной значимости и осмысленности жизни, которые уже с отроческих лет волнуют нашу душу и заставляют нас думать, что мы родились не «даром», что мы призваны осуществить в мире что-то великое и решающее и тем самым осуществить и самих себя, дать творческий исход дремлющим в нас, скрытым от постороннего взора, но настойчиво требующим своего обнаружения духовным силам, образующим как бы истинное существо нашего «я», – эти мечты оправданы ли как-либо объективно, имеют ли какое-либо разумное основание, и если да – то какое? Или они просто – огоньки слепой страсти, вспыхивающие в живом существе по естественным законам его природы, как стихийные влечения и томления, с помощью которых равнодушная природа совершает через наше посредство, обманывая и завлекая нас иллюзиями, свое бессмысленное, в вечном однообразии повторяющееся дело сохранения животной жизни в смене поколений? Человеческая жажда любви и счастья, слезы умиления перед красотой, – трепетная мысль о светлой радости, озаряющей и согревающей жизнь или, вернее, впервые осуществляющей подлинную жизнь, – есть ли для этого какая-либо твердая почва в бытии человека, или это – только отражение в воспаленном человеческом сознании той слепой и смутной страсти, которая владеет и насекомым, которая обманывает нас, употребляя как орудия для сохранения все той же бессмысленной прозы жизни животной и обрекая нас за краткую мечту о высшей радости и духовной полноте расплачиваться пошлостью, скукой и томительной нуждой узкого, будничного, обывательского существования? А жажда подвига, самоотверженного служения добру, жажда гибели во имя великого и светлого дела – есть ли это нечто большее и более осмысленное, чем таинственная, но бессмысленная сила, которая гонит бабочку в огонь?
Эти, как обычно говорится, «проклятые» вопросы или, вернее, этот единый вопрос «о смысле жизни» волнует и мучает в глубине души каждого человека. Человек может на время, и даже на очень долгое время, совсем забыть о нем, погрузиться с головой или в будничные интересы сегодняшнего дня, в материальные заботы о сохранении жизни, о богатстве, довольстве и земных успехах или в какие-либо сверхличные страсти и «дела» – в политику, борьбу партий и т. п., – но жизнь уже так устроена, что совсем и навсегда отмахнуться от него не может и самый тупой, заплывший жиром или духовно спящий человек: неустранимый факт приближения смерти и неизбежных ее предвестников – старения и болезней, факт отмирания, скоропреходящего исчезновения, погружения в невозвратное прошлое всей нашей жизни со всей иллюзорной значительностью ее интересов – этот факт есть для всякого человека грозное и неотвязное напоминание нерешенного, отложенного в сторону вопроса о смысле жизни. Этот вопрос – не «теоретический вопрос», не предмет праздной умственной игры; этот вопрос есть вопрос самой жизни, он так же страшен – и, собственно говоря, еще гораздо более страшен, чем при тяжкой нужде вопрос о куске хлеба для утоления голода. Поистине, это есть вопрос о хлебе, который бы напитал нас, и воде, которая утолила бы нашу жажду. Чехов описывает где-то человека, который, всю жизнь живя будничными интересами в провинциальном городе, как все другие люди, лгал и притворялся, «играл роль» в «обществе», был занят «делами», погружен в мелкие интриги и заботы – и вдруг, неожиданно, однажды ночью, просыпается с тяжелым сердцебиением и в холодном поту. Что случилось? Случилось что-то ужасное – жизнь прошла, и жизни не было, потому что не было и нет в ней смысла!
И все-таки огромное большинство людей считают нужным отмахиваться от этого вопроса, прятаться от него и находят величайшую жизненную мудрость в такой «страусовой политике». Они называют это «принципиальным отказом» от попытки разрешить «неразрешимые метафизические вопросы», и они так умело обманывают и всех других, и самих себя, что не только для постороннего взора, но и для них самих их мука и неизбывное томление остаются незамеченными, быть может, до самого смертного часа. Этот прием воспитывания в себе и других забвения к самому важному, в конечном счете единственно важному вопросу жизни определен, однако, не одной только «страусовой политикой», желанием закрыть глаза, чтобы не видеть страшной истины. По-видимому, умение «устраиваться в жизни», добывать жизненные блага, утверждать и расширять свою позицию в жизненной борьбе обратно пропорционально вниманию, уделяемому вопросу о «смысле жизни». А так как это умение, в силу животной природы человека и определяемого им «здравого рассудка», представляется самым важным и первым по настоятельности делом, то в его интересах и совершается это задавливание в глубокие низины бессознательности тревожного недоумения о смысле жизни. И чем спокойнее, чем более размерена и упорядочена внешняя жизнь, чем более она занята текущими земными интересами и имеет удачу в их осуществлении, тем глубже та душевная могила, в которой похоронен вопрос о смысле жизни. Поэтому мы, например, видим, что средний европеец, типичный западноевропейский «буржуа» (не в экономическом, а в духовном смысле слова) как будто совсем не интересуется более этим вопросом и потому перестал и нуждаться в религии, которая одна только дает на него ответ. Мы, русские, отчасти по своей натуре, отчасти, вероятно, по неустроенности и неналаженности нашей внешней, гражданской, бытовой и общественной жизни, и в прежние, «благополучные» времена отличались от западных европейцев тем, что больше мучились вопросом о смысле жизни, – или более открыто мучились им, более признавались в своих мучениях. Однако теперь, оглядываясь назад, на наше столь недавнее и столь далекое от нас прошлое, мы должны сознаться, что и мы тогда в значительной мере «заплыли жиром» и не видели – не хотели или не могли видеть – истинного лица жизни и потому и мало заботились об его разгадке.