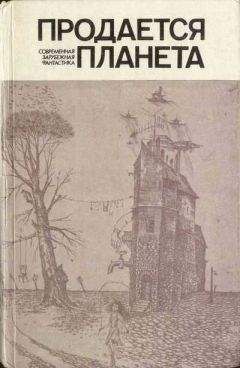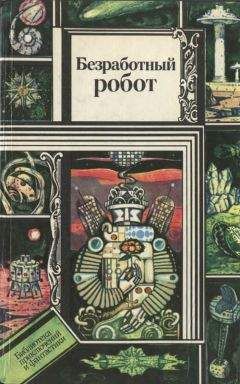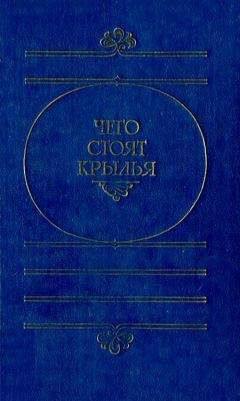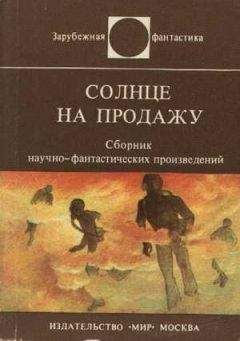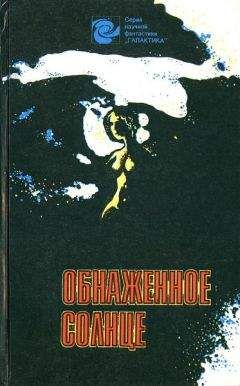Уильям Мак-Нил - В погоне за мощью
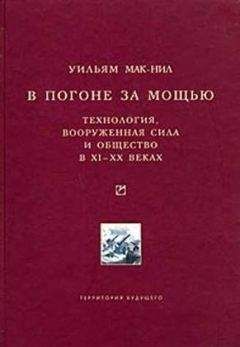
Помощь проекту
В погоне за мощью читать книгу онлайн
В послевоенные десятилетия ни ядерный зонтик, ни усилия международных миротворческих структур по предотвращению малых войн и повстанческой борьбы не смогли предотвратить ни их развязывание, ни повторение. Количество вооруженных конфликтов исчислялось сотнями, и воюющие стороны, почти неизбежно зависевшие от внешних источников поступления оружия, неизменно (прямо или опосредованно) обращались к одной из сверхдержав(15*). Остаться в стороне было трудно: например, американцы большими силами приняли участие в войне в Корее (1950-1953 гг.) и даже еще более крупными позднее безуспешно воевали во Вьетнаме. В свою очередь, русские вторгались в непокорные восточноевропейские страны в 1956 и 1968 гг., а в 1979 попытались сделать то же самое в Афганистане. Соединенные Штаты одержали убедительную победу в Корее и потерпели унизительное поражение во Вьетнаме. Остается лишь ждать, последует ли за убедительной победой русских в Венгрии и Чехословакии противоположный исход в Афганистане.
Поистине необычная способность технически развитого общества с ошеломляющей мощью обрушиваться на противника зависит от предварительного соглашения относительно конечных результатов, на которые следует нацелить коллективные знания и усилия. Достижение подобного соглашения не является ни автоматическим, ни гарантированным – что стало очевидным в Соединенных Штатах во время войны во Вьетнаме. Дело, вернее, цели, за которые дрались американцы, были настолько сомнительными, что провозглашавшая возвращение войск политика стала востребованной необходимостью. Превосходство американцев в технологиях не помогло разгромить Вьетконг. Разрушения лишь укрепили ненависть вьетнамцев по отношению к пришельцам. Эскалация насилия могла предложить лишь всеобщее наступление на коммунистический Север, либо уровень разрушений, губительный для большинства жителей Юга (защита свобод населения которого провозглашалась Штатами целью войны).
Более того, в то время как вьетнамцы все более сплачивались в своем неприятии иностранного вторжения, общественное мнение в Соединенных Штатах становилось все более поляризованным относительно законности и мудрости интервенции во Вьетнам. Недоверие ко всему военному, к высоким технологиям и административно-научно-военно-промышленной элитам, направлявшим ответные меры Штатов на запуск спутника Советами, стало повсеместным. Большие надежды и непоколебимая самоуверенность, с которыми правительство Соединенных Штатов начинало в 1960-х свою авантюру в космосе, испарились, оставив горький осадок. Значительная часть молодежи восприняла то или иное течение контркультуры, намеренно отвергая достигшие во время и после Второй мировой войны невиданных высот модели общественного управления.
Краткий срок жизни наркоманов засвидетельствовал самоубийственность крайних проявлений протеста молодежи, равно как и неспособность найти жизнестойкие альтернативы бюрократическому, корпоративному управлению. Дешевые и производимые в массовом порядке товары требовали отлаженной технологии; технология могла быть обеспечена лишь огромными, бюрократически управляемыми корпорациями; взаимодействие подобных корпораций-гигантов также требовало бюрократического управления. Спонтанность, личная независимость и солидарность малой группы против чужаков были слишком ограниченными в подобном обществе. Однако материальное обеднение, неизменно следующее за радикальным возвратом к любому из этих старых ценностей и поведенческих моделей, было слишком высокой ценой для большинства бунтарей.
Как бы то ни было, отлаженные технологии были крайне уязвимыми для разрушения. Снижавшая стоимость эффективность фабрики требовала точной координации потока множества поставок. Нарушение на любом отрезке этой цепи быстро обращало эффективность в свою противоположность. При условии соответствующей организации разочарованные и несогласные группы могли достаточно легко воспрепятствовать промышленному процессу, как то с 1880-х неоднократно показывал опыт успешных забастовок и стачек.
С другой стороны, выживание даже самых ярых революционных групп было возможно лишь ценой создания собственной бюрократии, изнутри укрепляющей мощь организации. В свою очередь, подлинно сильные и организованные на бюрократических началах революционеры вскоре оказывались втянутыми в лабиринт разрешения проблем государственного управления. Со времен Первой мировой войны государственная жизнь Германии и Великобритании полна подобных примеров; однако Советский Союз привел к своеобразному логическому завершению бюрократическое перерождение протеста в правление. Прежде революционная партия и крайне разрушительные профсоюзы перевоплотились в совершенно явные инструменты государственного контроля над рабочей силой и всем обществом в целом.
Непреложная необходимость бюрократической организации групп для выживания в бюрократическом мире была суровой действительностью. Это непременное условие лишало контркультуру 1960-х подлинной, устойчивой значимости – хотя американские технократы и политики были вынуждены признать существование пределов имевшихся в их распоряжении новых возможностей общественного управления. Эти ограничения, о которых дотоле никто и не подозревал, привели к тому, что созданные государством и составляющие его костяк гигантские административные структуры не могли сами определять, какие задачи необходимо было преследовать, или кто кем должен управлять. Трезвый расчет и рациональность в разрешении подобных проблем отодвигались в тень идеалами и эмоциями. Лишь оставаясь в установленных унаследованными и преобладающими в обществе убеждениями рамках, могла манипулятивная пропаганда устанавливать эмоциональную атмосферу массового послушания. Неотъемлемая для высокотехнологичного и резко дифферинциированного общества раздробленность оказывала невероятное давление на политическое руководство. Снизить возникавшую напряженность не помогало даже наличие самых изощренных расчетов максимальной эффективности, системного анализа и других инструментов современного промышленно-корпоративно- го управления на службе политиков и государственных деятелей(16*).
Вероятно, наиболее основополагающим сдвигом в послевоенные десятилетия был отказ существующим государственным властям в прежней верности. С одной стороны, за счет государства стали утверждаться этнические, региональные и религиозные группировки, а с другой – все большую мощь стали обретать наднациональные образования и межгосударственные структуры. В итоге в 1960-1970-х наиболее насущными стали вопросы – в каких пределах и в каких целях следует применять техническую изощренность современного управленчества. Проблема была наиболее животрепещущей в наиболее развитых странах, где старомодный патриотизм находился в явном упадке, и способ ее разрешения вполне может стать основным вопросом будущего человечества.
Советское общество не было гарантированно избавлено от подобных проблем. Уверенно провозглашаемые в начале 1960-х Хрущевым обещания растаяли, когда стало очевидно, что одних лишь призывов КПСС трудиться еще напряженнее во имя лучшей жизни когда-нибудь в будущем явно недостаточно для достижения основополагающей повышенной производительности.
Знаменитое развенчание Хрущевым культа Сталина в 1956 г. выпустило на волю прежде сдерживавшийся критический настрой отдельных составных управленческих элит. Так, начали подвергаться сомнению советские методы планирования, а споры о путях достижения более эффективного задействования ресурсов приобрели несвойственную для прежних времен открытость. В середине 1960-х были предприняты первые эксперименты с проведением административных реформ, однако стоило дебатам вокруг последних начать раскрывать внутренние проблемы и разницу в подходах, как публичная дискуссия оказалась закрытой вновь(17*). В последующие годы (как и в предшествовавший период власти Советов и в дореволюционные десятилетия) политическое давление сделало открытое выражение несогласия невозможным.
В то же время необходимое для противостояния преследованиям со стороны властей личное мужество придало особый вес голосу тех, кто продолжал стоять на своем. В послевоенный период несогласие (или диссидентство) в коммунистическом мире продолжало распространяться. Еще в 1946 г. откололась от стран социалистического лагеря Югославия; вслед за ней последовали еще несколько стран, среди которых наиболее значимым был Китай (1961 г.). Подобный раскол отражал национальные разнообразия и чувства-так же, как проявления несогласия в СССР (особенно среди евреев и мусульман). Мало того, против подавления правды и свобод личности выступил ряд выдающихся ученых и писателей. Эти люди могли распространять свои мнения по тайным каналам как внутри СССР, так и за его пределами.