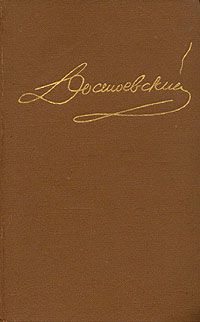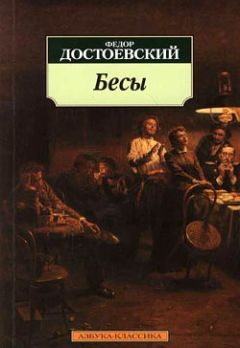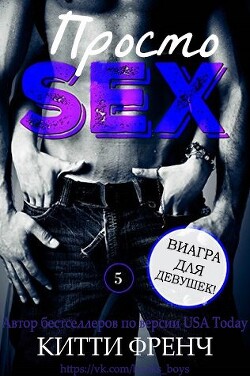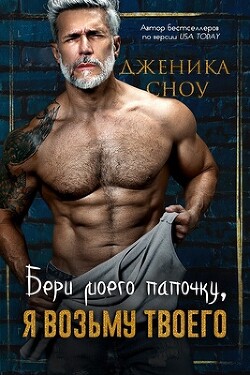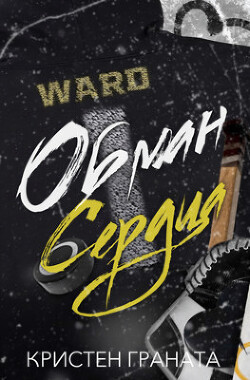Вячеслав Иванов - Достоевский и роман-трагедия

Помощь проекту
Достоевский и роман-трагедия читать книгу онлайн
6.
То, что было охарактеризовано выше, как реалистическое переживание, или внутренний опыт мировой мистической реальности, имеет своею постоянною основою ощущение женственного в мире, как вселенской живой сущности, как Души Мира. Реалист мистический - тот, кто знает Мать-владычицу, желанную Невесту, вечную Жену, и в ее многих ликах узнает единый принцип, обращающий впервые феномены в действительные символы истинно сущего, воссоединяющий разделенное в явлении, упраздняющий индивидуацию и, вместе, опять ее зачинающий, вынашивающий и лелеющий, как бы в усилиях достичь все неудающейся, все несовершенной гармонии между началом множественности и началом единства. Реалист мистический видит Ее в любви и в смерти, в природе и в живой соборности, творящей из человечества - сознательно ли, или бессознательно для личности - единое вселенское тело. Чрез посвящение в таинство смерти Достоевский был приведен, невидимому, к познанию этой общей тайны, как Дант чрез проникновение в заветную святыню любви. И как Данту чрез любовь открылась [434] смерть, так Достоевскому - через смерть - любовь. Этим сказано, что обоим раскрылась и Природа, как живая душа. По ощущению природы у Достоевского мы можем измерить и проверить его мистический реализм. Парадоксально чуждаясь искони общепринятого у поэтов обычая и сладостного обряда украшать свои вымыслы описаниями природы, Достоевский как бы наложил на себя запрет выступать "природы праздным соглядатаем", по выражению Фета. Он как бы считает недолжным наблюдать ее и отражать в зеркале отделившегося от нее духа: ему хотелось бы только приникать к Земле и ее целовать. Очень редко позволяет он себе упомянуть о природе, и всегда с целью указать в нужные и торжественные минуты на ее вечную, недвижимую символику. Так, в эпилоге "Преступления и Наказания" он живописует мимоходом степи кочевников, чтобы окончательно противопоставить заблуждениям оторвавшейся от Земли, мятущейся человеческой личности безличную Азию, изначальную колыбель человечества, с доселе пасущимися на ее древних пастбищах стадами Авраама. Так, в одно огромное, по своему содержанию, и священное мгновение в жизни Алеши поэт заставляет нас, вместе с ним, созерцать звездное небо. Так, однажды, над темным петербургским переулком теплится звездочка, когда внизу мечется, как сорвавшаяся с неба падучая звезда, какая-то беспомощная и затравленная девочка. Так, в том же "Сне смешного человека", - "ласковое, изумрудное море" целует берега "с любовью явной, видимой, почти сознательной". Так, хаотически шевелится ночной осенний парк над сценой убийства Шатова. Но Достоевский не живописец внешних явлений и ликов вообще: он ищет запечатлеть внутреннее обличие людей и в природе хотел бы раскрыть нам только ее душу; а Природа не имеет психологии переменчивой и зыбкой, как человек, и только человеческому идеализму может казаться в этом отношении человекоподобной. Душа ее - не модальность поверхностных переживаний, а субстанциальность мистических глубин. В откровениях старца Зосимы приподымаются мгновениями завесы, скрывающие эту таинственную жизнь. Да еще дурочка, Марья Тимофеевна, в "Бесах", разоблачает перед нами, своим детским языком, в символах своего ясновидения, неизреченные правды. "А по-моему, говорю, Бог и природа есть все одно". - Они мне все в один голос: "вот на!" Игуменья рассмеялась, [435] зашепталась о чем-то с барыней, подозвала меня, приласкала, а барыня мне бантик розовый подарила, - хочешь покажу? Ну, а монашек стал мне тут же говорить поучение, да так это ласково и смиренно говорил, и с таким, надо быть, умом; сижу я и слушаю. "Поняла ли?" спрашивает. "Нет, говорю, ничего я не поняла, и оставьте, говорю, меня в полном покое". Вот с тех пор они меня одну в полном покое оставили, Шатушка. А тем временем и шепни мне, из церкви выходя, одна наша старица, на покаянии у нас жила за пророчество: "Богородица что есть, как мнишь?" "Великая Мать, отвечаю, упование рода человеческого". "Так, говорит, Богородица - великая Мать Сыра Земля есть, и великая в том для человека заключается радость. И всякая тоска земная, и всякая слеза земная - радость нам есть; а как напоишь слезами под собою землю на пол аршина в глубину, то тотчас же о всем и возрадуешься. И никакой, никакой, говорит, горести твоей больше не будет; таково, говорит, есть пророчество". Запало мне тогда это слово. Стала я с тех пор, на молитве, творя земной поклон, каждый раз землю целовать, сама целую и плачу. И вот, я тебе скажу, Шатушка... ничего-то нет в этих слезах дурного; и хотя бы и горя у тебя никакого не было, все равно слезы твои от одной радости побегут. Сами слезы бегут, это верно. Уйду я, бывало, на берег к озеру: с одной стороны наш монастырь, а с другой наша острая гора, так и зовут ее горой Острою. Взойду я на эту гору, обращусь я лицом к востоку, припаду к земле, плачу, плачу и не помню, сколько времени плачу, и не помню я тогда, и не знаю я тогда ничего. Встану потом, обращусь назад, а солнце заходит, да такое большое, да пышное, да славное, - любишь ты на солнце смотреть, Шатушка? Хорошо, да грустно. Повернусь я опять назад к востоку, а тень-то, тень-то от нашей горы далеко по озеру, как стрела, бежит, узкая, длинная, длинная, и на версту дальше, до самого на озере острова, и тот каменный остров - совсем, как есть, пополам его перережет; и как перережет пополам, тут и солнце совсем зайдет, и все вдруг погаснет. Тут и я начну совсем тосковать, тут вдруг и память придет; боюсь сумрака, Шатушка, и все больше о своем ребеночке плачу". Ребеночек-то только воображаемый; но без грезы и скорби о ребеночке не была бы полна идеальная жизнь этой женской [436] души, отразившей в себе, как в зеркале, душу великой Матери Сырой Земли. Устами дурочки говорит у Достоевского о чем-то неизреченном и единственно чаемом, о своем солнечном Женихе и о грустной славе его двойника и пустого престола, зримого солнца, - душа Земли и, именно, русская ипостась ее душа земли русской. Нечто интимное, как тоска покинутой женщины, и священнотаинственное, как смиренные глубины души народа-богоносца, звучит в песенке Марии Тимофеевны:
Мне не надобен нов-высок терем, Я останусь в этой келейке, Уж я стану жить-спасатися, За тебя Богу молитися.
Эти песенные слова, быть может, самое нежное, что сказал Достоевский о сокровеннейших тайниках нашей народной души, - ее любви и тоски, ее веры и надежды, ее отречения и терпения, ее женской верности, ее святой красоты. О! речь идет не о подвиге и подвижничестве нашем на историческом поприще, не о мужественности нашей и ее долге дерзновения и воинствования в жизненном действии и в творчестве духовном. Речь идет о мистической психике народной стихии нашей - о заветной тайне нашей душевности. По легенде Дивеевского монастыря в Сарове, Богоматерь вошла в пустынь и очертила ограду своей обители на будущие времена. Так, по древнему гимну, многострадальная матерь Деметра вошла, после долгих скитаний по земле, в округу Элевсина и затворилась в священный затвор, полагая этим основание будущих таинств. Так ушла русская душа, душа земли нашей и народа нашего, в смиренный затвор, с незримою святыней своего богоразумения и обручального кольца своего, которым обручилась она со Христом. В своей отшельнической тишине следует она молитвенною мыслью за славой и падениями возлюбленного - человеческого мира, дерзающего и блуждающего гордого человеческого духа, и ждет, пока напечатлеется на нем лик Христов, пока возлюбленный придет к ней в образе Богочеловека.
[437]
ЭКСКУРС
ОСНОВНОЙ МИФ В РОМАНЕ "БЕСЫ"
Роман "Бесы" - символическая трагедия, и символизм романа - именно тот "реализм в высшем смысле", по выражению самого Достоевского, который мы называем реалистическим символизмом. Реалистический символизм возводит воспринимающего художественное произведение а realibus ad realiora - от низшей действительности к реальности реальнейшей. В процессе же творчества, обратном процессу восприятия, обусловливается он нисхождением художника от предварительного интуитивного постижения высшей реальности к ее воплощению в реальности низшей - а realioribus ad realia. Если это так, необходимо, для целостного постижения этого эпоса-трагедии, раскрыть затаенную в глубинах его наличность некоего - эпического по форме, трагического по внутреннему антиномизму - ядра, в коем изначала сосредоточена вся символическая энергия целого и весь его "высший реализм", т.е. коренная интуиция сверхчувственных реальностей, предопределившая эпическую ткань действия в чувственном мире. Такому ядру символического изображения жизни приличествует наименование мифа. Миф определяем мы, как синтетическое суждение, где подлежащему-символу придан глагольный предикат. В древнейшей истории религий таков тип пра-мифа, обусловившего первоначальный обряд; из обряда лишь впоследствии расцветает роскошная мифологема, обычно этиологическая, т.е. имеющая целью осмыслить уже данную культовую наличность; примеры пра-мифа: "солнце рождается", "солнце - умирает", "бог - входит в человека", "душа вылетает из тела". Если символ обогащен глагольным сказуемым, он получил жизнь и движение; символизм превращается в мифотворчество. Истинный реалистический символизм, основанный на интуиции высших реальностей, обретает этот принцип жизни и движения (глагол символа, или символ-глагол) в самой интуиции, как постижение [438] динамического начала умопостигаемой сущности, как созерцание ее актуальной формы, или, что то же, как созерцание ее мировой действенности и ее мирового действия. Кажется, что именно миф в вышеопределенном смысле имеет в виду Достоевский, когда говорит о "художественной идее", обретаемой "поэтическим порывом", и о трудности ее охвата средствами поэтической изобразительности. (2) Что "идея" есть по преимуществу прозрение в сверх-реальное действие, скрытое под зыбью внешних событий и единственно их осмысливающее, видим из заявлений Достоевского о его quasi-"идеализме", он же - "реализм в высшем смысле": "Совершенно другие я понятия имею о действительности и реализме, чем наши реалисты и критики. Мой идеализм реальнее ихнего. Порассказать толково то, что мы все, русские, пережили в последние 10 лет в нашем духовном развитии, - да разве не закричат реалисты, что это фантазия? А между тем это исконный, настоящий реализм. Это-то и есть реализм, только глубже, а у них мелко плавает... Ихним реализмом сотой доли реальных, действительно случившихся фактов не объяснишь. А мы нашим идеализмом пророчили даже факты. Случалось". (3) Итак, внутренний смысл случающегося улавливает тот, кто различает под его движением сокровенный ход иных, чисто-реальных событий. Действующие лица внутренней, реальной драмы - люди, но не как личности, эмпирически выявленные в действии внешнем или психологически постигнутые в заветных тайниках душевной жизни, но как личности духовные, созерцаемые в их глубочайших, умопостигаемых глубинах, где они соприкасаются с живыми силами миров иных. "При полном реализме найти в человеке человека... Меня зовут психологом: неправда, я лишь реалист в высшем смысле, т.е. изображаю все глубины души человеческой".(4) Но личность для Достоевского антиномична, - не только вследствие противоречивой сложности своего внутреннего состава, но и потому, что она одновременно и отделена от других личностей, и со всеми ими непостижно слита; ее границы неопределимы и таинственны. [439] "Попробуйте разделиться, попробуйте определить, где кончается ваша личность и начинается другая. Определите это наукой! Наука именно за это берется. Социализм именно опирается на науку. В христианстве и вопрос немыслим этот. (NB. Картина христианского разрешения.) Где шансы того и другого решения? Повеет дух новый, внезапный"...(5) Достоевский явно чувствует, что дух христианства не допускает нашего отрицательного определения личности ("я" и "не-я", "мое" и "не-мое") и требует, чтобы она самоопределялась положительно ("я" через "ты"), что мы можем лишь отчасти и смутно предварять во внутреннем опыте любви и вселенского сочувствования, т.е. чает в самоощущении личности некоего трансценса ("повеет дух новый"). В связи с этими намеками на мистическое учение о личности - in statu nascendi - должно рассматривать и догмат Достоевского о вине каждого перед всеми, за всех и за все. Неудивительно, что народ в глазах Достоевского - личность, не мысленно синтетическая, но существенно самостоятельная, жизненно целостная: есть в ней периферия многоликости, и есть внутренняя святыня единого сознания, единой воли. В этом единстве различимы два начала: женственное, душевное, совершительное, - и мужественное, духовное, зачинательное. Первое вырастает из общей Матери - живой Земли, Мировой Души; корни второго - в иерархиях сил небесных. Свободное, оно - это второе, мужественное начало - может самоутвердиться в себе, сказав: "я - бог и жених небесный", - или, отдав свое я Христу, предстать Земле богоносным вестником; и только богоносность народного я делает его всечеловеческим. О русском народе Достоевский веровал, что он - "народ-богоносец". Очевидно, богоносный народ не есть народ эмпирический, хотя эмпирический народ и составляет его земное тело; богоносный народ не есть, по существу, ни этнографическое, ни политическое понятие, но один из светочей в многосвечнике мистической Церкви, горящей перед Престолом Слова. Национальное и государственное начала обретают свой смысл и освящение, лишь как сосуды богоносного духа. Покровы этого духа могут казаться и быть греховными, недужными, разлагающимися; но ведь Дух дышит, где хочет. Народ-богоносец - живой светильник Церкви и некий ангел; но пока не кончилась всемирная история, ангел волен в путях своих, и если колеблется в верности, над ним тяготеет [440] апокалиптическая угроза: "сдвину светильник твой с места, извергну тебя из уст Моих". Поэтому о России ничего достоверно нельзя знать, "в Россию можно только верить", как сказал близкий к Достоевскому в этом круге представлений Тютчев; и сам Достоевский в Россию просто верил, отчего, в духе христианской надежды, - она же лишь другая ипостась Веры, - и говорил будущему благодатному свершению, которое представлялось ему как истинная теократия на Руси, где и преступников будет судить своим Христовым судом Церковь, "буди, буди!" Достоевский, приближающийся к идее богоносной соборности в "Преступлении и Наказании", к идее Вечной Женственности в "Идиоте" (как уже и раньше в повести "Хозяйка"), анализом причин одержания России духами безбожия и своеволия был подвигнут к положительным прозрениям в таинственное соотношение выше намеченных сущностей. И когда эти прозрения с яркостью вспыхнули, дотоле казавшийся неудачно задуманным и мертворожденным роман внезапно озарился ослепительным светом; в "поэтическом порыве" поэт принялся перестраивать начатую постройку, ища и отчаиваясь выявить и воплотить разоблачившуюся перед ним во всей своей огромности "идею". Он как бы воочию увидел, как может замыкаться от Христа мужеское начало сокровенного народного бытия и как женское его начало, Душа-Земля русская, стенает и томится ожиданием окончательных решений суженого жениха своего, героя Христова и богоносца: пускай безумствует она в пленении и покинутости, но изменника и самозванца под личиною желанного и долгожданного всегда узнает, и обличит его, и проклянет. Достоевский хотел показать в "Бесах", как Вечная Женственность в аспекте русской Души страдает от засилия и насильничества "бесов", искони борющихся в народе с Христом за обладание мужественным началом народного сознания.(6) Он хотел показать, как обижают бесы, в лице Души русской, самое Богородицу (отсюда символический эпизод поругания почитаемой иконы), хотя до самих невидимых покровов Ее досягнуть не могут (символ нетронутой серебряной ризы на иконе Пречистой в доме убитой Хромоножки). Задумав основать роман на символике соотношений между Душою Земли, человеческим я, дерзающим и зачинательным, и силами Зла, Достоевский естественно должен был оглянуться на уже данное во всемирной поэзии изображение того же по символическому составу мифа [441] в "Фаусте" Гете. Хромоножка заняла место Гретхен, которая, по разоблачениям второй части трагедии, тожественна и с Еленою, и с Матерью-Землей; Николай Ставрогин - отрицательный русский Фауст, отрицательный потому, что в нем угасла любовь и с нею угасло то неустанное стремление, которое спасает Фауста; роль Мефистофеля играет Петр Верховенский, во все важные мгновения возникающий за Ставрогиным с ужимками своего прототипа. Отношение между Гретхен и Mater Gloriosa - то же, что отношение между Хромоножкою и Богоматерью. Ужас Хромоножки при появлении Ставрогина в ее комнате предначертан в сцене безумия Маргариты в тюрьме. Ее грезы о ребенке почти те же, что бредовые воспоминания гетевской Гретхен...