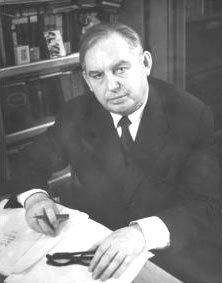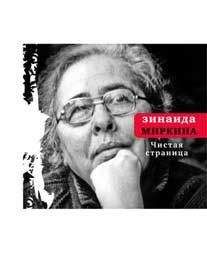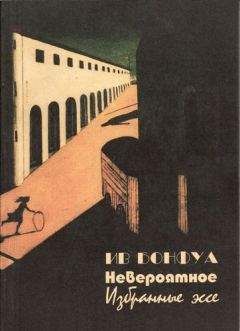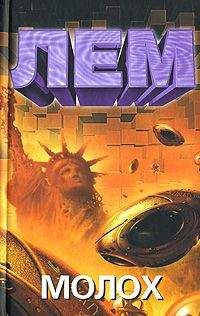Стихи и эссе - Ингер Кристенсен
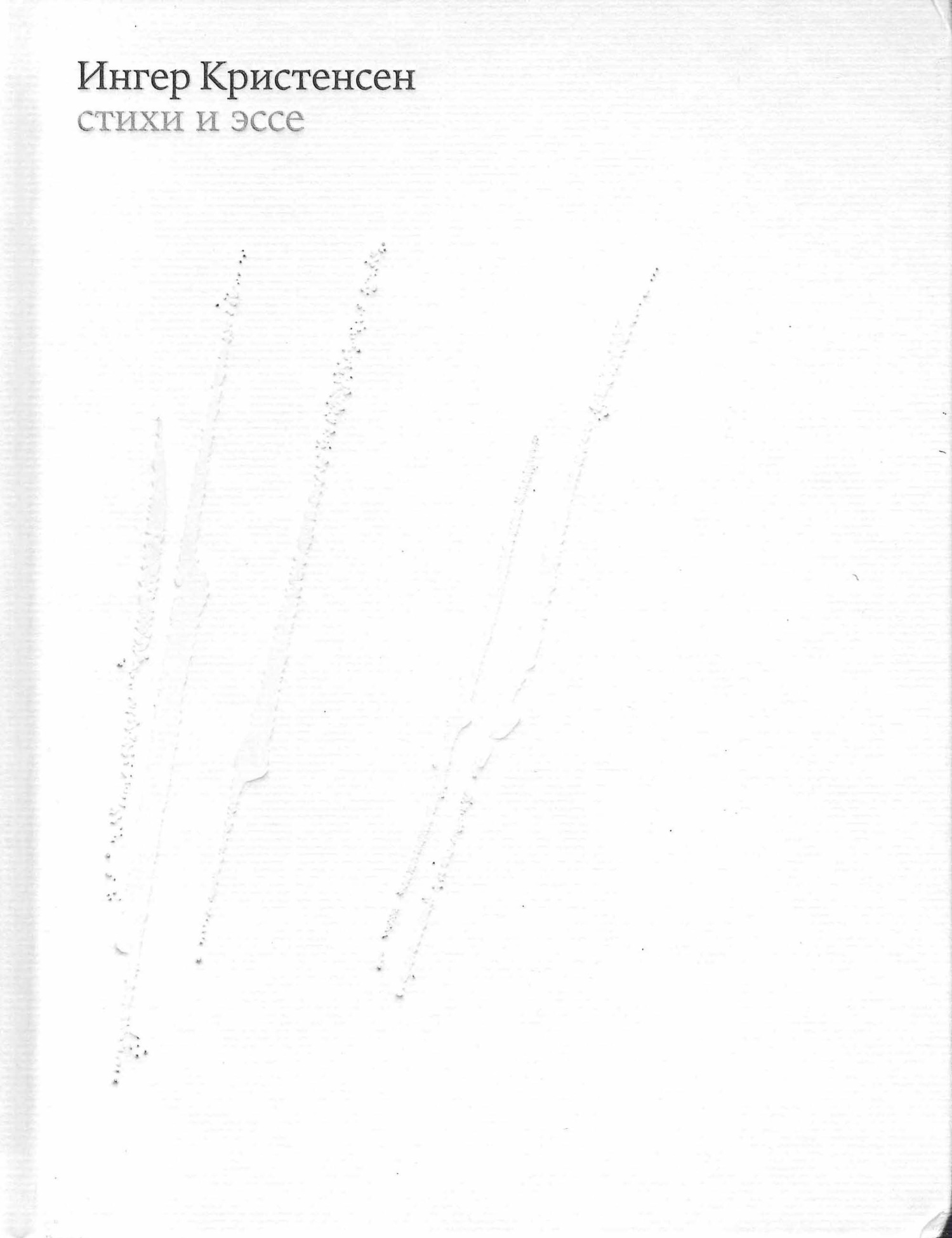
Помощь проекту
Стихи и эссе читать книгу онлайн
Как правило, расположены они у моря и смотрят чаще всего на запад, туда, где заходит Солнце; впрочем, даже и вдали от моря существует столь насущная потребность сходить на край света, что сгодится любой ландшафт, даже плоская равнина. Главное, чтобы мы могли выйти и увидеть чистое ничто. Не в качестве антипода к нечто. Скорее ничто в себе. В нас.
Г. Х. Андерсен в своём провидческом «Колоколе» рассказывает, зачем и почему нам это нужно. «По вечерам в узких улочках большого города, когда закатывалось Солнце и между печными трубами начинали проглядывать подсвеченные золотом облака, частенько то одному, то другому доводилось услышать странный звук – как будто звонил церковный колокол, – вот только расслышать его можно было лишь на мгновение, такой уж там стоял гул от экипажей и такой людской гвалт – ничего за ними не разобрать».
И вот уже многие тянутся за город в поисках колокола, но они не находят ничего, кроме всевозможных отговорок, чтобы отправиться обратно домой, и, пожалуй, большинство убеждено в том, что никакого колокола вовсе и нет, а есть лишь игра людского воображения.
И только двое не оставляли поиски. Богатый королевич и бедный юноша. «Колокол есть, и я его найду, хоть бы даже пришлось отправиться на Край Света!» – говорил королевич. Каждый своим путём, они шли всё глубже и глубже в лес, а встретились на закате на утёсе над морем – две ипостаси одной сущности. Богатому, у которого есть всё, недостаёт лишь её. Бедному, у которого нет ничего, нечего и терять – лишь её:
«Море, огромное величественное море, катившее свои плавные волны к берегу, простиралось перед ним, и Солнце возвышалось как огромный сияющий алтарь там, вдали, где сходились море и небо, всё сливалось воедино в этих пламенеющих красках, пел лес, и пело море, и им вторило его сердце; и всё естество было огромным святым храмом…»
Природа как храм. Звучит чересчур уж романтично и выспренне. В наши дни так, конечно, не выражаются, ведь с тех пор стало только больше гула и гвалта – ничего за ними не разобрать.
Но почему бы и нет? Чувство, которое и само является частью природы, никуда ведь не девается потому лишь, что мы не облекаем его в слово. Да и постоянно отыскиваются люди, готовые отправиться на Край Света, даже если он находится за пределами глобального мегаполиса. В каком же направлении им двигаться? Можно ли вообще выйти за пределы мегаполиса, если тот глобален?
Мир уменьшился, – говорим мы. Но это лишь потому, что мы ограничили его миром людей. Мир внешний, и здесь, на Земле, и вдали, в межзвёздном пространстве, стал больше и разнообразнее, чем мы когда бы то ни было могли представить и осмелились вообразить.
А уменьшился наш отдельный, людской мир. Потому что он с его духом мегаполиса расширился за счёт того, что лежит вовне. Нас миллионы, и мы всё сидим в вечной студии CNN и выслушиваем избранных граждан, в основном политиков и прочих экспертов, а они без устали разъясняют, как там обстоит дело с формами человеческого общества. Лишь когда случаются паузы, скажем, перебои в связи между потоком речи и событиями, тогда транслируют изображения того, что лежит вовне, – и начинают мелькать солнечные закаты, стаи лебедей, подсолнечники и тому подобное, скажем, мышь, живущая, как испокон веку.
Мы-то можем взять и выключить прямую трансляцию из мегаполиса. Только он от этого не перестанет существовать.
А потому я предлагаю, в подражание броскому дорожному щиту в Нарвике, в соответствующих европейских столицах написать, например, 4840 км – Нордкап, 4031 км – Карасйок* и 4576 км – Борисоглебск или сколько там на самом деле километров. Ведь это в Риме и Париже, в Вене и Копенгагене, а прежде всего, пожалуй, в Брюсселе и в мегаполисе CNN нам так необходимо знать, сколь далеко до Края Света.
Ночная тень
Бьёт полночь, и мы ничтоже сумняшеся считаем один день продолжением другого. Ночь за ночью мы движемся в той же размытой пограничной области, где лес, встающий перед нами, всегда, по сути, тот же, что и лес, исчезающий позади, и где мы едва успеваем различить силуэт пограничного шлагбаума, показывающего, что время с одной стороны 24:00, а с другой – 0:00, прежде чем мы мимоходом перемещаем старый день в новый, так что мы не знаем ни секунды покоя, ни единого мгновения вне времени.
Так к чему же играть с мыслью о том, что время застывает в неподвижности ровно в полночь? Или же новогодняя ночь в полночь должна застыть в ещё большей неподвижности, чем обычно? Время, как известно, никогда не останавливается. Во всяком случае, само по себе. Но если повезёт, то время, естественное, механическое, включая и человеческое время, может с известной помощью сменить хронологию, так что время от времени можно пережить наяву, что было бы, если бы время застыло в неподвижности. Не в какой-то запланированный, заранее вычисленный момент времени. Скорее, если случайным образом ты оказываешься столь погружен именно в случайность, что забываешь время и место, забываешь самого себя и даже забываешь различие между собой и окружающим миром.
Застыть, и притом в неподвижности, можно ночью в лесу, так же как застывают в неподвижности деревья. Ты поднимаешь руку, как ветер поднимает лист. Ты прислушиваешься к собственному шелесту, как к шелесту собратьев, к собственному дыханию, как к дыханию леса. Время твоё теперь иного рода – со столь медленными оборотами, что можно на собственном теле ощутить, как время застывает в неподвижности. За всю свою жизнь не насчитаешь столько подобных минут, сколько их наберётся в лесном времени. А взглянешь на часы – оказывается, время – твоё собственное – как всегда, шло, летело, навеки растворившись в обычно столь недоступном времени, застывшем в неподвижности.
Поэтому, в сущности, наша связь со временем оказывается очень гибкой. Захотим – войдём в него, захотим – выйдем, понадобится – укоротим, понадобится – удлиним. По нашему желанию оно может бешено нестись, а мы потом будем гадать, почему же не хватило времени, но может и еле тащиться, так что жалкие два часа покажутся нам вечностью. Мы можем расписать всё по часам, а можем следовать и собственному ритму, а на часы поглядывать лишь время от времени. Всё в