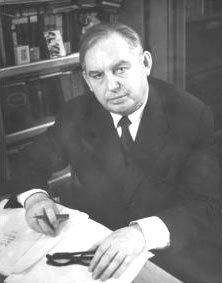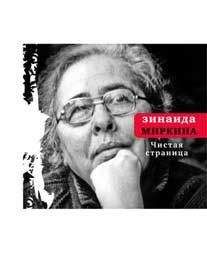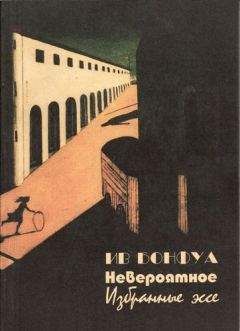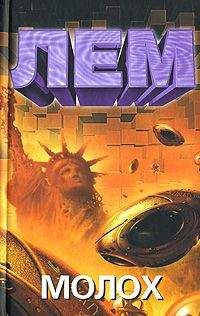Стихи и эссе - Ингер Кристенсен
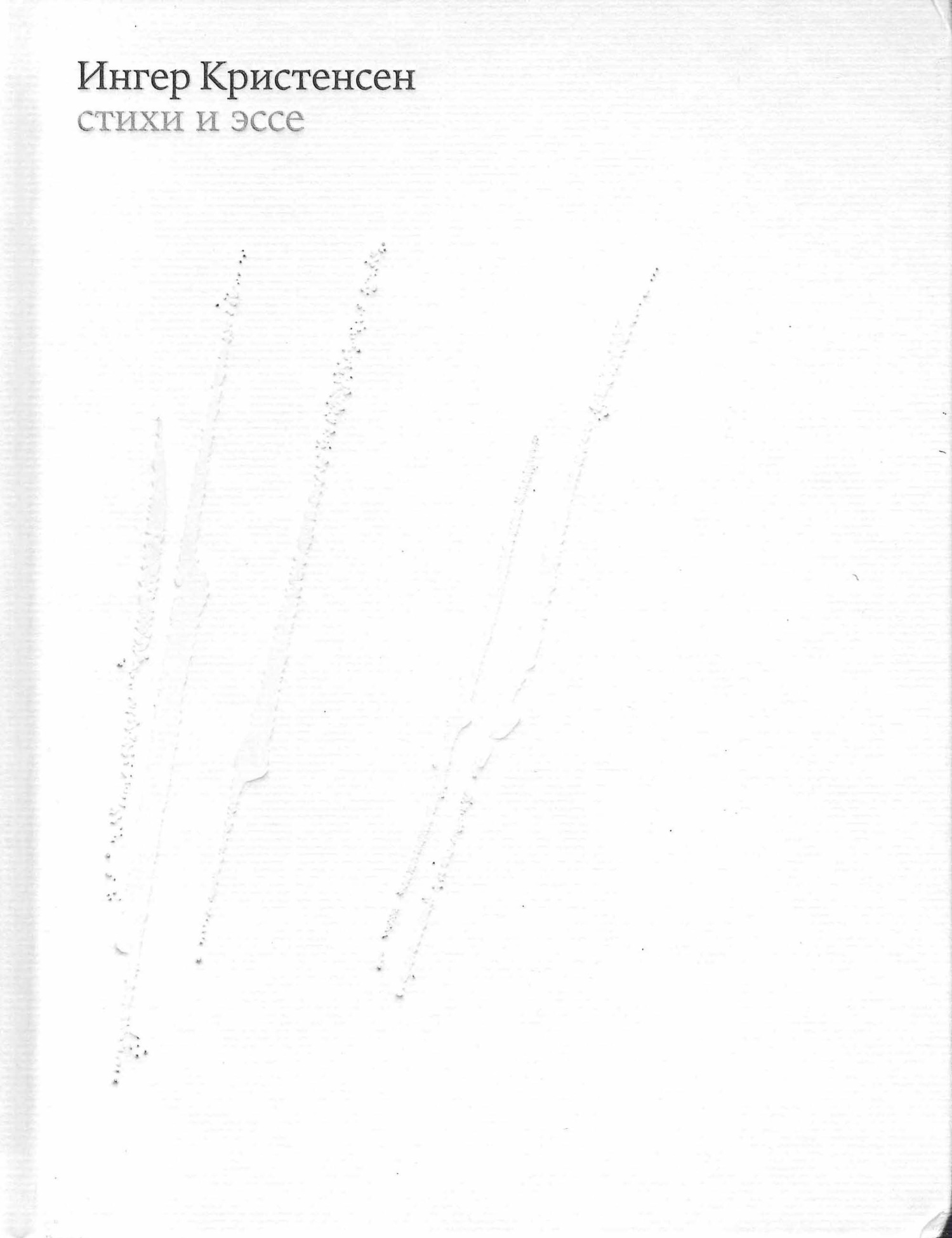
Помощь проекту
Стихи и эссе читать книгу онлайн
Но небо Магритта светлей, чем небо летней ночью. Это небо в два часа дня, а не в два часа ночи, когда оно в лучшем случае слегка светлеет. Небо Магритта статично. Оно самое светлое, какое только можно найти, и в любое время дня населено облаками, чьи очертания мы с такой нежностью узнаем и пристально в них вглядываемся. Небо Магритта – это наше собственное, дорогое нам летнее небо, когда мы, ещё детьми, лежим на спине в траве, а наши мысли где-то странствуют, и облака напоминают нам обо всём, чего только нет между небом и землёй. Самое светлое из светлого, бесконечно открытое, но, по версии Магритта, нечто, происходящее ночью, в оттенках тьмы и в предчувствии катастрофы. Истинная ночь ужасов, где всё, что угодно, может случиться, и всё, что угодно, наверное, и случается. Просто никто об этом не догадывается, поскольку небо статично и так прозрачно, а тьму и все проделки тьмы глаз, привыкший к свету, уже никогда не сможет разглядеть.
Магритт назвал картину «Царство света» парадоксальным образом, поскольку он сам, как и зритель, наверняка думал именно о ночи. Из-за этого парадокса – мы переживаем ночь и день одновременно – живопись Магритта, как правило, называют сюрреалистической и редко видят за ней что-то большее. Но то реалистическое, из которого сюрреалистическое вырастает, чтобы стать надсмотрщиком своих собственных основ, при этом никуда не девается. Поэтому, когда небо, светлое, как днём, своим сводом покрывает земную, житейскую ночь, это может казаться неестественным для наших чувств, для зрения, на которое мы единственно можем положиться, но ночью, между двенадцатью и двумя часами, когда мы закрываем глаза, мы прекрасно знаем, сколь естественным образом день остаётся с нами.
Мы прекрасно знаем, сколь привычно мы проходим сквозь день, но ночью день столь же привычно проходит сквозь нас. Ночью, когда мы доверчиво укладываемся в земной тени, мы лишь потому столь доверчивы, что знаем, что свет есть на другой стороне Земли, дающей нам это пристанище в тени. Свет и тень, неразрывно связанные в нашей форме ночи, где мы находим покой в беспокойности.
В сущности, мы живём в параллельности дня и ночи. Параллельность, или поэзия, которая учит нас, что бессмертны мы лишь, пока живём. Можно ведь и на ночной сон под покровом земной тени посмотреть как на упражнение в привыкании к абсолютной ночи. Между двенадцатью и двумя часто ведь думаешь о смерти, не называя её явно. Так же думаешь и о войне, зная, что она никогда не закончится, если только мы не возьмём многого из того, что называем ночью, с собой в день. Как? Возможно, следует вечно ходить по тротуарным плиткам, с непропорционально длинной тенью, растущей с каждым нашим шагом и напоминающей нам о небытии. Говорят, что мы просыпаемся в тот момент, когда начинаем видеть сон во сне. Наверное, и умираем мы в тот момент, когда наша тень наползает на тень.
Как глаз, не видящий собственной сетчатки
С момента появления первых священных писаний существует представление о мировой книге, где сказано всё, – книге, ставящей человека наравне с Богом.
Начиная от Библии, а затем у Новалиса и Малларме это представление подпитывалось собственной неосуществимостью.
Библия, безусловно, называется откровением, но это откровение ограничивается тем, что мы смотримся в него как в зеркало, видя пока только загадку, но в своё время посмотрим и лицо в лицо – когда-нибудь, когда открываемого мира больше не будет.
И также, когда Новалис пытается отыскать всеохватывающий сплав слова и феномена – «Das Äußre ist ein in einen Geheimniszustand erhobe-nes Innere» («Внешний мир есть возведённый в состояние тайны мир внутренний») – и подходит вплотную к формуле исчерпывающего понимания мира, его работа над архетипической книгой разрастается всё более беспорядочно, ибо чем больше он собирает, чем больше во всё это вчитывается, тем больше, кажется, всё рассеивается, так же точно, как впоследствии у Малларме начинают говорить скорее паузы между словами, чем сами слова.
Всё это представление о том, что можно записать мир как он есть, чтобы его можно было и прочитать, весь этот круг идей о совпадении языка и видимого мира, всё, что можно назвать читаемостью мира, кажется, указывает скорее на то, сколь он нечитаем. Во всяком случае, если ограничиться лишь языком. В языке читаемость мира может остаться метафорой. Но зато истоки этой метафоры лежат как в нашем обыденном опыте, так и в нашем научном знании о том, что читаемость мира существует. Только она пока не воплотилась в книге.
С такой книгой вечно происходило бы то же, что с картой в знаменитом рассказе Борхеса: её чертили всё крупнее и подробнее, и она в конце концов приняла размеры целого мира, покрыв собой то, что на самом деле должна была раскрыть. В масштабах человека карта может быть сокращением. Так же как язык может быть сокращением для читаемости мира. Поэтической аббревиатурой для всех лексем Вселенной, в чьи соотношения и подвижки мы не можем не вчитываться. Того, что Новалис называет «das seltsame Verhältnisspiel der Dinge» («удивительной игрой между соотношениями вещей»).
Эта Verhältnisspiel проявляется в любых самовоспроизводящихся системах и их переплетениях. С точки зрения мира людей, прежде всего в языке и математике и их переплетении в нас. Может быть, если распутать это сплетение, это кое-что рассказало бы нам о читаемости мира и о том, что же, собственно, идёт первым, речь или число, язык или математика?
Нужно владеть речью, чтобы досчитать до десяти. Или, вернее, нужно владеть речью, чтобы поведать другим, что умеешь считать до десяти. Но и наоборот, чтобы говорить, нужно уметь считать, хотя бы до двух. Как ребёнок, который, пытаясь что-то пролопотать – мама и я, ням-ням и я, – уже владеет числом «два», я плюс мир, а тем самым и считает, и говорит.
Во многих языках число и речь – это одно и тоже слово: tal (число) и tale (говорить), bereigning (вычисление) и beretning (сообщение), optælling (счет) и fortælling (рассказ) в датском, Zahl (число) и erzählen (рассказывать) в немецком и т. д.
Тем не менее выходит так, что по мере роста, когда мы осваиваем общественные ценности и формы социального поведения, число и речь всё более расходятся.
Когда ребёнок наконец