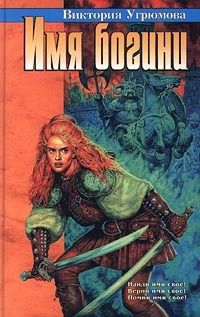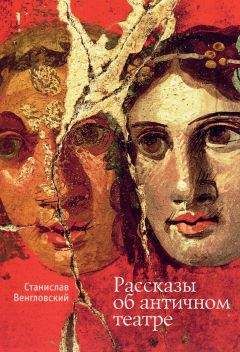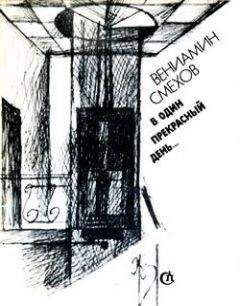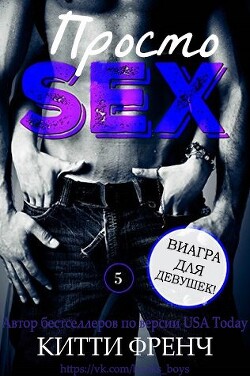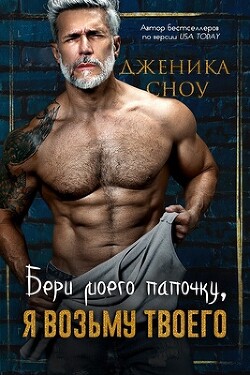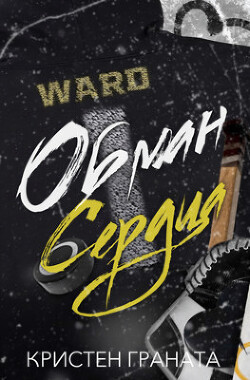Вадим Шверубович - О людях, о театре и о себе
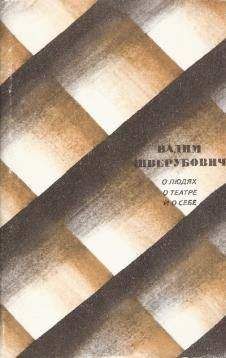
Помощь проекту
О людях, о театре и о себе читать книгу онлайн
Лужский любил и умел смешить и сам был необыкновенно и неудержимо смешлив. Как-то раз во двор театра въехал извозчик, у которого на сиденье пролетки лежала трость с гнутой серебряной ручкой, а сзади на втором извозчике ехал Лужский и хохотал. Хохотал и его извозчик так, что чуть не валился с козел. Так они прохохотали на радость встречным прохожим от самого Сивцева Вражка, где Василий Васильевич нанял первого извозчика, глухого старика, многократно возившего его и без приказа знавшего, куда надо ехать, — Лужский успел только положить на сиденье палку и занести ногу, когда извозчик тронул и поехал. Василий Васильевич нанял другого и поехал следом за первым. Так он приехал в Художественный театр на двух извозчиках. По этому поводу хохотали почти до конца сезона, придумывая все новые и новые варианты того, как и с кем это еще могло произойти.
До меня эти варианты доходили в пересказе отца, и, так как я не умел отделить вымысел фантастический от вымысла же (правды в этих рассказах почти не бывало) реалистического, — в голове у меня создавалось совсем уже сумбурное представление о том, что делается в театре, где играют не дети, а большие, взрослые люди. Поэтому я никак не мог вначале всерьез принять (понять я это и не пытался) рассказ о том, как «Володя глубоко вскопнул», а «Костя гениально, ну воистину гениально показал» кому-то. Я везде искал и ждал — а когда будет смешно. Но смешно бывало далеко не всегда.
Не могу сказать, что рассказы комические уступали место рассказам восхищенно-влюбленным, нет, они шли параллельно, пародии и юмор обвивались вокруг серьезного, но я постепенно начинал прислушиваться и к серьезным и старался не принимать их за неудавшиеся шутки (раз что не смеются), а соображать, что в театре «играют» иногда и всерьез.
Я не знаю, кого больше любили и чтили у нас в доме. У матери, как человека более импульсивного, отношение менялось в зависимости от того, как относятся к ней, как принимают ее. У отца отношение к людям было более стабильным и объективным.
И Константина Сергеевича и Владимира Ивановича он ценил и уважал бесконечно глубоко. Я думаю, больше всех на свете. Была у него к обоим и огромная любовь и нежность. Была и острая тревога за их здоровье, настроение, благополучие… Боязнь, чтобы кто-нибудь их не огорчил, не обидел. Но в характере отношения к ним была очень большая разница.
Отец любил больше Константина Сергеевича, чтил в нем гения, сверхчеловека; к нему не подходили обычные мерки, которыми определялся человек: «добрый» — нет, никак, скорее жестокий; «злой» — нет, ни в коем случае, он же благостный; «кроткий» — в чем-то да, но часто свирепый, беспощадный, безжалостный… безжалостный больше всего к себе — в своем безжалостном преодолении своей же жалости к человеку; «умный» — нет, но гений — да. Считал, что у него нет ума — такта, ума — умения наладить отношения с человеком, но есть гениальная способность (и глубокий ум в этом) подойти и разбудить творчество в актере. Он может быть бестактен, бесполезно груб с актером-человеком, но умеет с нежностью и мудростью проникать в самые глубины психики актера-творца.
У отца были периоды острого неприятия Константина Сергеевича, мучительного раздражения его поведением, его жестокостью… Потом под влиянием какого-то открытия, какой-то гениальной находки Константина Сергеевича, а иногда после какой-нибудь смешной оговорки или нелепого ляпсуса это проходило и сменялось почти обожанием. «Бурбон», «самодур», «Тит Титыч», — говорил он о нем. Причем бледнел, дрожали губы и пальцы. А потом: «Ну гений же, ну до чего талантлив, эх, если бы можно было идти за ним!» Недоступность для актера, заоблачность высот, на которые звал Константин Сергеевич, недостижимость его пределов — это было большой трагедией и для самого отца и, с его точки зрения, для всего театра, для всей деятельности Станиславского. Иногда он винил только себя, свою «трусость», свой «кокотизм» (стремление нравиться, любовь к успеху), но часто злился за это и на Константина Сергеевича.
Владимира Ивановича отец любил человечески меньше, но работать с ним он любил больше, чем с Константином Сергеевичем.
Если Константин Сергеевич звал отца к вершинам творчества, вел его по труднейшему, почти непреодолимо трудному пути и был его учителем и наставником в этике творчества, в методе подготовки себя к творчеству, в перевоспитании себя в творца, в умении раскрыть себя для лучшего и подавить в себе худшее (как в творческом работнике), звал к отваге духа, смелости, вере в истинно прекрасное и правдивое искусство и презрению к псевдокрасивому и лживому ремеслу — одним словом, помогал его творческому самопознанию, — то Владимир Иванович помогал ему конкретно в создании роли. Первое редко давало радость и никогда не давало удовлетворения. Оно было несовместимо с ним. Удовлетворение, удовлетворенность, довольство — несовместимы с той взыскательностью, к которой вел Константин Сергеевич. Второе же (работа над ролью) часто давало радость и нередко удовлетворение.
Помню, как за обедом: «Молодец Володя, так разутюжил сцену — все на место встало», и ясный, веселый и, главное, довольный, довольный и собой тоже (а ему это так редко доводилось!) взгляд.
На Владимира Ивановича отец злился, вернее, раздражался за стремление к славе, успеху, радостям жизни. Он не считал его гением и сверхчеловеком, как Константина Сергеевича, но верил в его ум и огромный талант. Ум Владимира Ивановича он считал вполне человеческим, европейски-деловым даже в решении философских и отвлеченно эстетических вопросов. В его «прозрения» не верил, но в чутье и в искусстве, и в литературе, и, конечно, в актерском мастерстве — верил очень.
В четыре-пять лет я, конечно, не так понимал, как написал теперь, но написал я это по глубоко врезавшимся в память самым детским воспоминаниям, провспоминавшимся через всю долгую жизнь, по-разному в разное время осмысленным, но в основном сохранившим первые контуры.
Так я воспринял этих двух великих людей, воспринял раз и навсегда, и никакие другие отзывы, никакие личные впечатления от долгих лет работы с ними и жизни подле них не могли стушевать и изменить тот их образ, который вычеканил во мне отец в самом раннем детстве.
Огромную роль в моем детском восприятии Константина Сергеевича и Владимира Ивановича играли еще и их внешние данные (Константин Сергеевич — огромный красавец, да еще с усами; Владимир Иванович — маленький и с бородой, «как у доктора»), их квартиры (у Константина Сергеевича — огромные, просторные светлые залы, лестницы, шкафы с рыцарями; у Владимира Ивановича — тесные комнаты, заставленные мягкой плюшевой мебелью, тоже «как у доктора»); у Константина Сергеевича — пес Каштанка, который «пел» — лаял под рояль, ласковая красивая Кира и тихий, нежный Игорь; у Владимира Ивановича — один Миша, который для гостей пилит по часу на скрипке.
Смущало только богатство Константина Сергеевича.
Мать читала мне басню «Стрекоза и Муравей», и толкование морали этой басни у нее было своеобразное: веселая и милая актриса Стрекоза жила, как и полагается жить всякому порядочному существу, то есть веселилась, гуляла, пела, радовалась жизни и, будучи сама доброй, надеялась на доброту других. А негодяй Муравей, жадный лавочник, скупой мещанин, злой, как все богатые, с издевательством оттолкнул ее. Она бы погибла от голода и холода, но добрый, сам бедный Навозный жук поделился с ней последним, и они дружно и весело перезимовали. Этот конец был придуман нами вместе, чтоб не дать умереть бедной актрисе.
Богатые обязательно жадные и злые, иначе они бы не были богатыми… Это, видимо, было крепко засевшей в нашей семье этической нормой.
В этом смысле богатство, «фабрикантство» Константина Сергеевича меня ужасно огорчало, и я должен был подыскивать разные «смягчающие вину обстоятельства», чтобы простить ему его общественное и имущественное положение. Одним из самых убедительных «смягчений» было то, что он получил богатство от отца и еще не успел его растратить, но он постарается, и к моей взрослости, когда я по-настоящему смогу дружить с ним (а об этом я очень мечтал), он уже будет «как мы», то есть будет проедать и пропивать все жалованье. Самое смешное, что так оно и случилось…
Если в смысле «социальном» и «экономическом» я был совершенно единодушен с родителями и всей их компанией, то в смысле политическом — наоборот. В пять лет, когда у нас ночевали прятавшиеся от полиции эсдеки, когда отец был зарегистрирован в охранном отделении как неблагонадежный и сам себя считал марксистом и социал-демократом, — я при всем честном народе, то есть при «революционно мыслящих» актерах заявил: «Нет, без царя скучно». Это была бомба. Отец был смущен, сконфужен, опозорен… Мать возмущена и со свойственной ей энергией и активностью начала выяснять, кто на меня так влияет. Подозрения падали на немку — фрау Митци, которая носила фамилию Витте и гордилась этим («А чем гордиться, ведь Витте — царский сатрап и негодяй»), и, главное, на швейцара Михаилу, который был под подозрением («А он не охранник?») в черносотенстве.