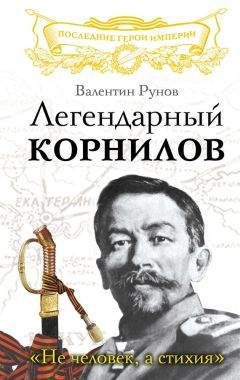Дора Штурман - У края бездны

Помощь проекту
У края бездны читать книгу онлайн
Каковы основания утверждать, что о н и, с у б ъ е к т и в н о (как и многие другие решительные и сотрясенные люди) жаждущие восстановления былой мощи отечества и несомненно в большинстве своем - его благоденствия, по крайней мере для русских, толкают его к жестокому и необратимому краху?
Прежде чем попытаться ответить на свой вопрос, замечу: возникает впечатление, что ни непреложности причин, ни близкой возможности такого краха не видят не только решительные сторонники реставрации коммунистической империи, которых не впервые парадоксально поддерживает и часть монархистов. Не осознают этих причин и опасного автоматизма их действия и многие сторонники либеральных реформ. Эти либералы и демократы полагают, что в экономике можно с реформами не спешить. Они уповают и по сей день на их, плавность и постепенность. Время, четвертое измерение земного бытия, не воспринимается ими как нечто неумолимое и объективное. Они не видят, что резервы времени для плавности и постепенности экономических преобразований, которые имелись еще даже в 1985-1986 годах, и с ч е р п а н ы.
В 1917-1921 годах большевики разрушали не только политические, культурные, духовные, психологические формы существования, присущие Российской империи. Они разрушили окончательно в 1917-1933 годах (с короткой заминкой нэпа) все нормальные для современного общества способы хозяйственного существования огромной страны. Не скупясь на чужую кровь, они заменили все органичные способы этого бытия-формами хозяйствования, для больших социальных систем противоестественными.
С помощью насилия, лжи, демагогии можно одни политические установления заменить другими; можно долго насиловать и убивать культуру; можно посредством принуждения, лжи, воспитания вменять обществу в неукоснительный долг исповедание тех или иных идеологических догм. Хотя, конечно же, общество, человек будут повреждаться в этих тисках, но физическая сила власти, при ее информационно-идеологической монополии, может сохранять это уродливое бытие, то есть длить вырождение общества и человека, сравнительно долго.
В 20-40-х годах то одному, то другому эмигрантскому движению и деятелю чудилось, что большевики возродили и увеличили имперскую и национальную мощь России. Именно это обстоятельство во многом обусловило причудливые и зачастую трагические судьбы российской эмиграции, не миновавшие и некоторых авторов приведенных нами отрывков. Признал "великую историческую роль" Сталина на закате своих дней, в 1942-1943 годах, П. Н. Милюков; позволил заманить себя в СССР и то ли покончил с собой, то ли был выброшен из окна (или в лестничный пролет) на Лубянке Савинков. Станкевич, по словам глубоко привязанного к нему, но этих взглядов его не разделявшего Р. Гуля, в своей выходившей в Берлине газете "Жизнь" в сентябре 1920 года писал: ""Ни к красным, ни к белым! Ни с Лениным, ни с Врангелем!" - так звучит лозунг русской левой демократии. Но если можно отрицать всю Россию, то почему же нельзя ее всю принять и признать? Что, если рискнуть и вместо "ни к красным, ни к белым!" поставить смелое, гордое и доверчивое: "и к красным, и к белым!" - и принять сразу и Врангеля, и Брусилова, и Кривошеина, и Ленина!" Дальше Станкевич слал панегирики и "гению и гиганту" Ленину, "сотрясающему мир", и "чудесному герою Врангелю".
Из-за этой иллюзии часть первой эмиграции отвернулась от второй, военного времени: последняя, знавшая большевизму цену, была воспринята многими бывшими белыми как изменница делу России. А эти "белые" большевиков с великой Россией успели к тому времени в своем сознании отождествить. Один из самых трагических сюжетов, воплотивших в себе эту подмену понятий, - судьба семьи Эфрона-Цветаевой: муж - сначала белый офицер, потом агент и террорист органов в Европе, возвращенец, кончивший арестом пыточным следствием и расстрелом; дочь - французская совпатриотка, возвращенка, многолетняя узница и ссыльная в СССР; сын - пропавший без вести то ли советский солдат, то ли узник... Судьба великого русского поэта Марины Ивановны Цветаевой, ее путь от "Лебединого стана" до петли в Елабуге, известна...
Долго большинству наблюдателей не было понятно, что власть эта, в п о л и т и к е не просто твердая, а беспощадная, стремящаяся к оруэлловскому абсолютному произволу, в других фундаментальных отношениях совершенно бессильна, бесплодна и неотвратимо всеразрушительна. Саморазрушительна в том числе. Поразительно, что огромная "перестроечная" публицистика этому обстоятельству, наукой давно открытому и объясненному, не придает существенного значения. Разработка этой проблемы начата политико-экономической мыслью еще в конце XVIII века и завершилась на строгой математической основе на стыке экономики, политической экономии, биологии, теории информации, общей теории управления (кибернетики), учения о "больших системах", этики, истории, философии во второй половине XX века.
Огромный статистический материал, его анализ и обобщения в методологиях и методиках ряда наук сводятся к простому выводу: системам такого уровня сложности, как организм, общество, биоценоз и т. п., свойственна определенного рода внутренняя самоорганизация. При ее разрушении они удовлетворительно решать задачи своего выживания не могут. Способы, этой самоорганизации (соотношения авторитарности и либерализма, коллективизма и индивидуализма, патернализма и независимости, дискретности и непрерывности, суверенитета и централизма и т, п.) варьируются в разных культурах и при различных национальных менталитетах по-разному. Но главное остается общим: импульсы хозяйственной с а м о о р г а н и з а ц и и должны быть сильнее воли (произвола) общесистемного центра.
Воля потому приравнивается здесь нами к произволу, что никакой центр не может действовать в таких обстоятельствах иначе как слепо. Ибо количество заключенной в "больших системах" информации бесконечно. К тому же они еще и динамичны, и заключенная в них информация непрерывно и неуловимо меняется. Всеобъемлюще управлять ими расчетно-математическими методами из поставленного над ними центра невозможно: удовлетворительных команд для такой сложной и динамичной структуры нельзя за конечное время рассчитать. Нельзя даже собрать для них необходимую и достаточную информацию и ее проанализировать в реальные сроки. С того момента как в системе уничтожается самоорганизация (в современном обществе последнюю осуществляют политическая демократия и конкурентные рынки: товарный, ценных бумаг и капиталов; рабочей силы; информационный, культурно-эстетический), в ней начинается накопление неполадок ("шумов"), которые, достигнув критического, катастрофического уровня, систему неизбежно разрушают.
В России этот процесс начался в ноябре 1917 года и продолжается до сих пор.
По мере нарастания "шумов" вырождение системы неотвратимо ускоряется. Автоматических механизмов пресечения, смягчения или замедления кризисных процессов она в себе не несет. О бессилии поставленного над системой центра регулировать необъятное мы уже говорили. "Перестройка" началась потому, что Горбачев и его тогдашние единомышленники были осведомлены о катастрофическом нарастании темпов и масштабов вырождения экономики и природной среды СССР.
Надо было немедленно начинать вносить в еще централизованную, еще политически относительно покорную систему элементы хозяйственной самоорганизации, способные постепенно вывести ее из тупика социализма. В конце же тупика зияла пропасть и пламенел ядерный гриб. Об этом предупреждали многие ученые и мыслители. Горбачев в своей книге "Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего мира" (ни больше ни меньше!) писал, что получает такие предостережения, и даже не отказал им в благонамеренности, но просил подобных трудов ему более не присылать: он решительно не намеревался изменять "социалистическому выбору". И не намеревается (конец 1992 года) по сей день. Ельцин уже в 1988-1989 годах, а в 1990 году - четко, с твердой личной убежденностью и с трезвым инженерным пониманием структурной причины движения системы в тупик, заявил о принятии им вышеупомянутых научных выводов и о своем разрыве с социализмом и коммунизмом. Он был первым с 1917 года российским лидером, это сделавшим, и тем вошел в историю навсегда. Понял он и неотложность вмешательства в естественный для данной системы ход событий.
Все же те, кто независимо от своих целей утверждает, что они сначала наведут порядок (?) в экономике, политике, межнациональных и прочих внутриобщественных отношениях, то есть стабилизируют ситуацию, а уже потом пойдут к рынку, что они остановят зашедшую в тупик (на наш взгляд, еще по-настоящему и не начавшуюся) реформу, перепроверят ее, продумают другие ее пути и двинутся к рынку постепенно, медленно, менее болезненно для народа, - в очередной раз впадают в утопию. Действительно, надо и стабилизировать обстановку, и корректировать пути реформы, а может быть, и менять их, но все это необходимо делать на ходу, не замедляя, а ускоряя темпы воссоздания самоорганизации. Иначе не поспеть за ростом темпов распада.