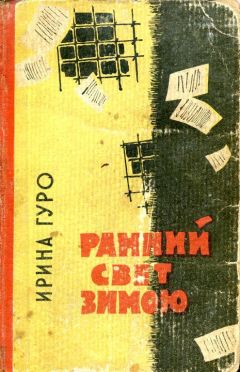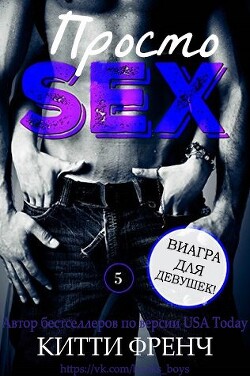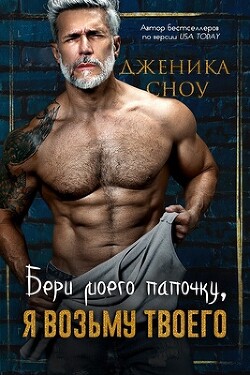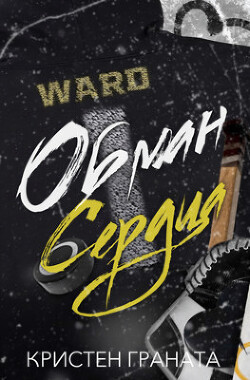Виктор Астафьев - Фотография, на которой меня нет
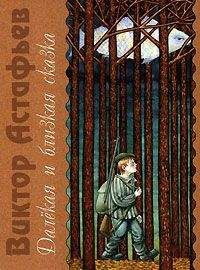
Помощь проекту
Фотография, на которой меня нет читать книгу онлайн
— Ладно! — решительно сказал Санька. — Ладно! — еще решительней повторил он. — Раз так, я тоже не пойду! Все! — И под одобрительным взглядом бабушки Катерины Петровны проследовал в середнюю. — Не последний день на свете живем! — солидно заявил Санька. И мне почудилось: не столько уж меня, сколько себя убеждал Санька. — Еще наснимаемся! Ништя-а-ак! Поедем в город и на коне, может, и на ахтомобиле заснимемся. Правда, бабушка Катерина? — закинул Санька удочку.
— Правда, Санька, правда. Я сама, не сойти мне с этого места, сама отвезу вас в город, и к Волкову, к Волкову. Знаешь Волкова-то?
Санька Волкова не знал. И я тоже не знал.
— Самолучший это в городе фотограф! Он хочь на портрет, хочь на пачпорт, хочь на коне, хочь на ероплане, хочь на чем заснимет!
— А школа? Школу он заснимет?
— Школу-то? Школу? У него машина, ну, аппарат-то не перевозной. К полу привинченный, — приуныла бабушка.
— Вот! А ты…
— Чего я? Чего я? Зато Волков в рамку сразу вставит.
— В ра-амку! Зачем мне твоя рамка?! Я без рамки хочу!
— Без рамки! Хочешь? Дак на! На! Отваливай! Коли свалишься с ходуль своих, домой не являйся! — Бабушка покидала в меня одежонку: рубаху, пальтишко, шапку, рукавицы, катанки — все покидала. — Ступай, ступай! Баушка худа тебе хочет! Баушка — враг тебе! Она коло него, аспида, вьюном вьется, а он, видали, какие благодарствия баушке!..
Тут я заполз обратно на печку и заревел от горького бессилия. Куда я мог идти, если ноги не ходят?
В школу я не ходил больше недели. Бабушка меня лечила и баловала, давала варенья, брусницы, настряпала отварных сушек, которые я очень любил. Целыми днями сидел я на лавке, глядел на улицу, куда мне ходу пока не было, от безделья принимался плевать на стекла, и бабушка стращала меня, мол, зубы заболят. Но ничего зубам не сделалось, а вот ноги, плюй не плюй, все болят, все болят. Деревенское окно, заделанное на зиму, — своего рода произведение искусства. По окну, еще не заходя в дом, можно определить, какая здесь живет хозяйка, что у нее за характер и каков обиход в избе.
Бабушка рамы вставляла в зиму с толком и неброской красотой. В горнице меж рам валиком клала вату и на белое сверху кидала три-четыре розетки рябины с листиками — и все. Никаких излишеств. В середней же и в кути бабушка меж рам накладывала мох вперемежку с брусничником. На мох несколько березовых углей, меж углей ворохом рябину — и уже без листьев.
Бабушка объяснила причуду эту так:
— Мох сырость засасывает. Уголек обмерзнуть стеклам не дает, а рябина от угару. Тут печка, с кути чад.
Бабушка иной раз подсмеивалась надо мною, выдумывала разные штуковины, но много лет спустя, у писателя Александра Яшина, прочел о том же: рябина от угара — первое средство. Народные приметы не знают границ и расстояний.
Бабушкины окна и соседские окна изучил я буквальнодосконально, по выражению предсельсовета Митрохи.
У дяди Левонтия нечего изучать. Промеж рам у них ничего не лежит, и стекла в рамах не все целы — где фанерка прибита, где тряпками заткнуто, в одной створке красным пузом выперла подушка. В доме наискосок, у тетки Авдотьи, меж рам навалено всего: и ваты, и моху, и рябины, и калины, но главное там украшение цветочки. Они, эти бумажные цветочки, синие, красные, белые, отслужили свой век на иконах, на угловике и теперь попали украшением меж рам. И еще у тетки Авдотьи за рамами красуется одноногая кукла, безносая собака-копилка, развешаны побрякушки без ручек и конь стоит без хвоста и гривы, с расковыренными ноздрями. Все эти городские подарки привозил деткам муж Авдотьи, Терентий, который где ныне находится — она и знать не знает. Года два и даже три может не появляться Терентий. Потом его словно коробейники из мешка вытряхнут, нарядного, пьяного, с гостинцами и подарками. Пойдет тогда шумная жизнь в доме тетки Авдотьи. Сама тетка Авдотья, вся жизнью издерганная, худая, бурная, бегучая, все в ней навалом — и легкомыслие, и доброта, и бабья сварливость.
Дальше тетки Авдотьиного дома ничего не видать. Какие там окна, что в них — не знаю. Раньше не обращал внимания — некогда было, теперь вот сижу да поглядываю, да бабушкину воркотню слушаю.
Какая тоска!
Оторвал листок у мятного цветка, помял в руках — воняет цветок, будто нашатырный спирт. Бабушка листья мятного цветка в чай заваривает, пьет с вареным молоком. Еще на окне алой остался, да в горнице два фикуса. Фикусы бабушка стережет пуще глаза, но все равно прошлой зимой ударили такие морозы, что потемнели листья у фикусов, склизкие, как обмылки, сделались и опали. Однако вовсе не погибли — корень у фикуса живучий, и новые стрелки из ствола проклюнулись. Ожили фикусы. Люблю я смотреть на оживающие цветы. Все почти горшки с цветами — геранями, сережками, колючей розочкой, луковицами — находятся в подполье. Горшки или вовсе пустые, или торчат из них серые пеньки.
Но как только на калине под окном ударит синица по первой сосульке и послышится тонкий звон на улице, бабушка вынет из подполья старый чугунок с дыркою на дне и поставит его на теплое окно в кути.
Через три-четыре дня из темной нежилой земли проткнутся бледно-зеленые острые побеги — и пойдут, пойдут они торопливо вверх, на ходу накапливая в себе темную зелень, разворачиваясь в длинные листья, и однажды возникает в пазухе этих листьев круглая палка, проворно двинется та зеленая палка в рост, опережая листья, породившие ее, набухнет щепотью на конце и вдруг замрет перед тем, как сотворить чудо.
Я всегда караулил то мгновение, тот миг свершающегося таинства — расцветания, и ни разу скараулить не мог. Ночью или на рассвете, скрыто от людского урочливого глаза, зацветала луковка.
Встанешь, бывало, утром, побежишь еще сонный до ветру, а бабушкин голос остановит:
— Гляди-ко, живунчик какой у нас народился!
На окне, в старом чугунке, возле замерзшего стекла над черной землею висел и улыбался яркогубый цветок с бело мерцающей сердцевиной и как бы говорил младенчески-радостным ртом: «Ну вот и я! Дождалися?»
К красному граммофончику осторожная тянулась рука, чтоб дотронуться до цветка, чтоб поверить в недалекую теперь весну, и боязно было спугнуть среди зимы впорхнувшего к нам предвестника тепла, солнца, зеленой земли.
После того как загоралась на окне луковица, заметней прибывал день, плавились толсто обмерзшие окна, бабушка доставала из подполья остальные цветы, и они тоже возникали из тьмы, тянулись к свету, к теплу, обрызгивали окна и наш дом цветами. Луковица меж тем, указав путь весне и цветению, сворачивала граммофончики, съеживалась, роняла на окно сохлые лепестки и оставалась с одними лишь гибко падающими, подернутыми хромовым блеском ремнями стеблей, забытая всеми, снисходительно и терпеливо дожидалась весны, чтоб вновь пробудиться цветами и порадовать людей надеждами на близкое лето.
Во дворе залился Шарик.
Бабушка перестала починяться, прислушалась. В дверь постучали. А так как в деревнях нет привычки стучать и спрашивать, можно ли войти, то бабушка всполошилась, побежала в куть.
— Какой это там лешак ломится?.. Милости просим! Милости просим! — совсем другим, церковным голоском запела бабушка. Я понял: к нам нагрянул важный гость, поскорее спрятался на печку и с высоты увидел школьного учителя, который обметал веником катанки и прицеливался, куда бы повесить шапку. Бабушка приняла шапку, пальто, бегом умчала одежду гостя в горницу, потому как считала, что в кути учителевой одежде висеть неприлично, пригласила учителя проходить.
Я притаился на печи. Учитель прошел в середнюю, еще раз поздоровался и справился обо мне.
— Поправляется, поправляется, — ответила за меня бабушка и, конечно же, не удержалась, чтоб не поддеть меня: — На еду уж здоров, вот на работу хил покуда. Учитель улыбнулся, поискал меня глазами. Бабушка потребовала, чтоб я слезал с печки.
Боязливо и нехотя я спустился с печи, присел на припечек. Учитель сидел возле окошка на стуле, принесенном бабушкой из горницы, и приветливо смотрел на меня. Лицо учителя, хотя и малоприметное, я не забыл до сих пор. Было оно бледновато по сравнению с деревенскими, каленными ветром, грубо тесанными лицами. Прическа под «политику» — волосы зачесаны назад. А так ничего больше особенного не было, разве что немного печальные и оттого необыкновенно добрые глаза, да уши торчали, как у Саньки левонтьевского. Было ему лет двадцать пять, но он мне казался пожилым и очень солидным человеком.
— Я принес тебе фотографию, — сказал учитель и поискал глазами портфель.
Бабушка всплеснула руками, метнулась в куть — портфель остался там. И вот она, фотография — на столе.
Я смотрю. Бабушка смотрит. Учитель смотрит. Ребят и девчонок на фотографии, что семечек в подсолнухе! И лица величиной с подсолнечные семечки, но узнать всех можно. Я бегаю глазами по фотографии: вот Васька Юшков, вот Витька Касьянов, вот Колька-хохол, вот Ванька Сидоров, вот Нинка Шахматовская, ее брат Саня… В гуще ребят, в самой середке — учитель и учительница. Он в шапке и в пальто, она в полушалке. Чему-то улыбаются едва заметно учитель и учительница. Ребята чего-нибудь сморозили смешное. Им что? У них ноги не болят.