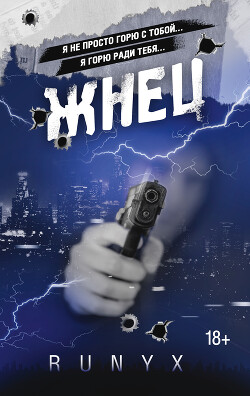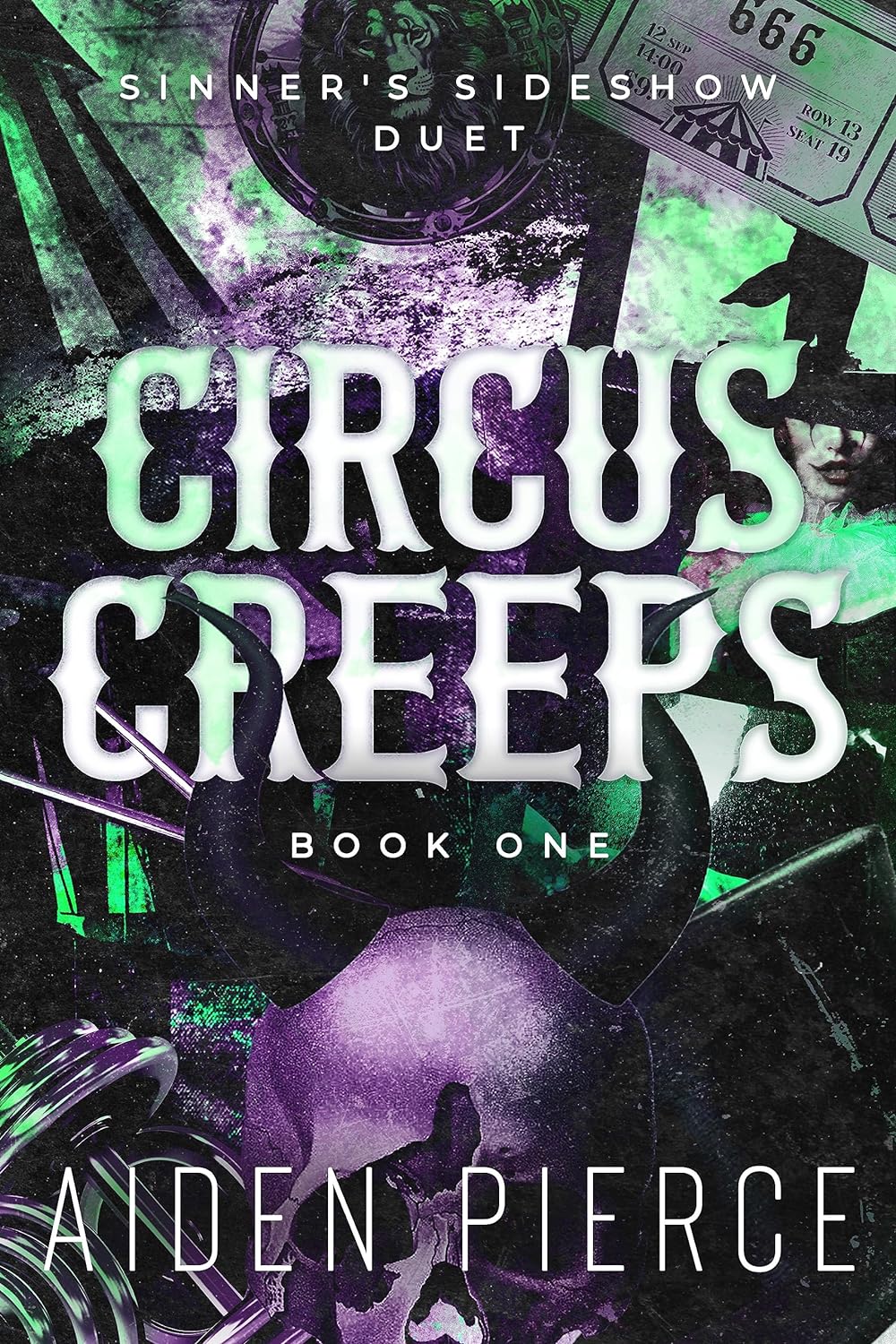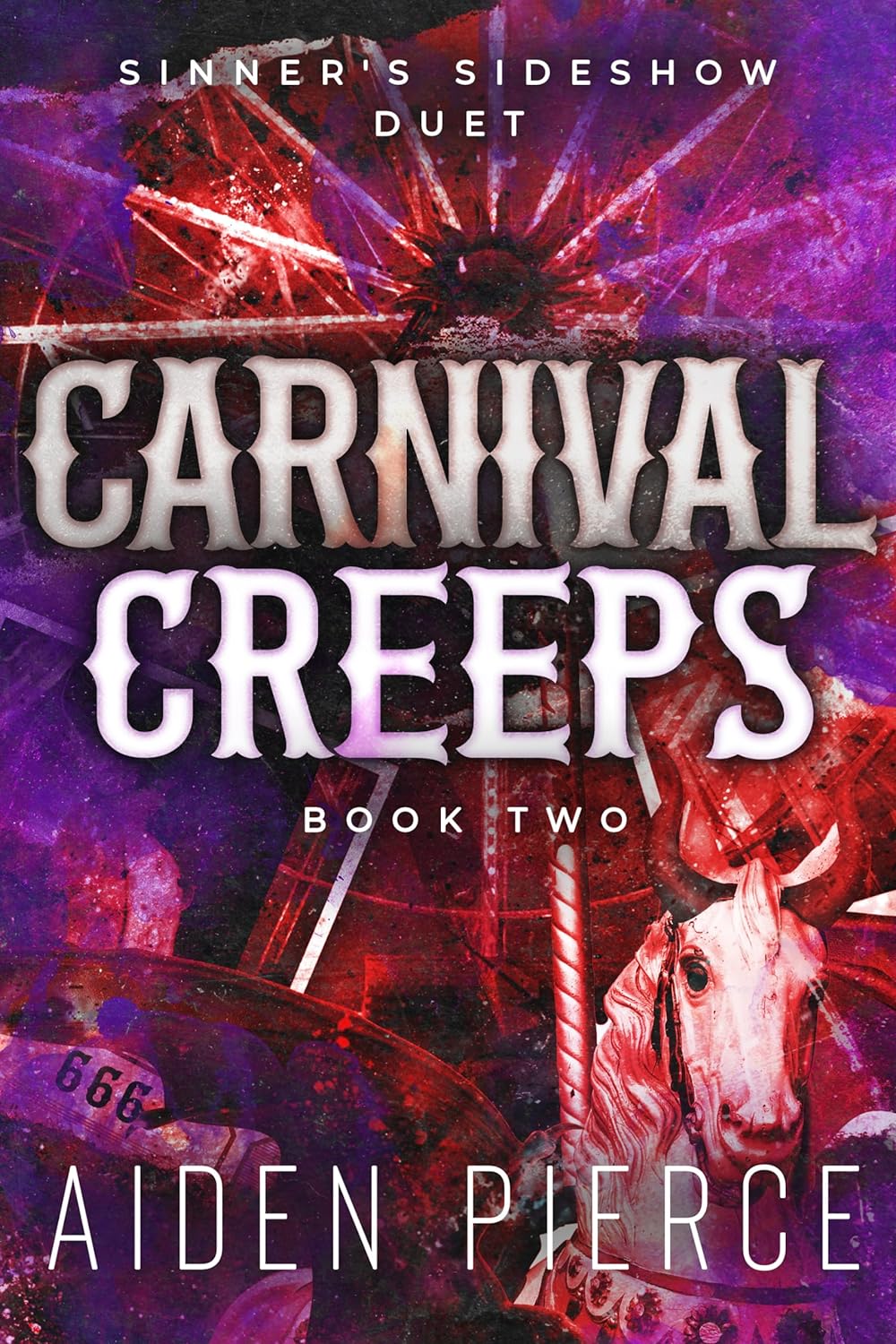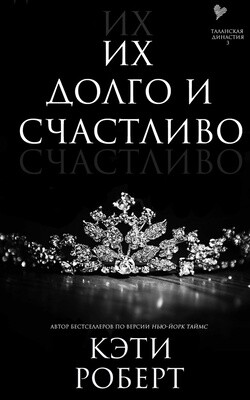Сергей Снегов - Иди до конца

Помощь проекту
Иди до конца читать книгу онлайн
— Верю. Я знаю — вы крепкая! И одинокой матерью вы не останетесь. Аркадий постарается помириться.
— Примирение зависит от меня. Он упрашивал еще раз поговорить, прислал письмо.
— Вы не согласились на встречу?
— Нет, разумеется. О чем нам толковать? Жить с человеком, которого не уважаешь, нельзя. Я, во всяком случае, не могу. Я так ему и сказала.
Терентьева смущала беспощадность Ларисы к себе и близким. Жизнь приучила его к покладистости. Он вырос в переходное время — между прописями морали и реальным поведением часто возникал разрыв. Бывали трудные годы и жестокие случаи, когда разрыв становился трагичным. Терентьев в ссылке часто успокаивал себя грустным утешением: «Что поделаешь, мы все навоз для лучшего будущего». Лариса по возрасту была уже из этого лучшего будущего, оно понемногу становилось настоящим. Но в Ларисе было не много из внешних признаков идеального человека, какими они расписывались в книгах: она опаздывала на работу, почти не выступала на собраниях, без охоты «тянула» комсомольские нагрузки — ее не раз пробирали, в стенгазете. Терентьев удивлялся ее равнодушию к газетам. Лариса слушала последние известия по радио, лишь когда передавали сводку погоды. Она признавалась, что безразлична ко всему, на что не может сама воздействовать. «Буду я сердиться или нет, Аденауэр от этого не изменится», — говорила она. По-настоящему Лариса интересовалась лишь тем, во что могла активно вмешаться. Однажды, впрочем, она проявила внимание к международной жизни. В Ливан вторглись интервенты, весь мир бушевал, требуя их ухода; Лариса тоже негодовала на интервентов. Но то, что людям, уставшим от скачки по ухабам жизненного пути, представлялось скучным морализированием, для Ларисы составляло потребность существования. Терентьев поражался. Можно было, конечно, иронизировать: дело, мол, в ее неопытности, заученные догмы разлетятся вдребезги при первом жестоком ударе о жизнь. Лариса, однако, не собиралась приспосабливать свою мораль к ухабам жизни. Она готова была, засучив рукава, творить себе жизнь, как тесто, — по своему пониманию. «Удивительно, нет, удивительно!» — думал Терентьев.
Был момент, когда ему показалось, что странное ее отношение к беременности возникло из желания уязвить Черданцева пожестче. Можно, можно и этим мстить — собственным страданием, своим безвыходным положением. Так мстят очень близким людям, тем, которым ты дорога — она-то знает, что дорога… Ах, какая же это сладкая месть — не делать прямого зла тому, кто тебя обидел, пусть лишь он непрерывно терзается сознанием, что тебе безвыходно плохо и причина этого он! Терентьев успокоился, когда пришла эта мысль. Лариса снова стала понятной: сложной, но но своему естественной. «Приземлить» ее не удалось. Лариса не мстила Аркадию, она просто не хотела его знать. И за что мстить? Она разочаровалась в нем, разочарование не оскорбление. Может, Лариса не желает до конца рвать с Аркадием? Помучает его и вернется. Вот для чего и ребенок нужен — связь, которую не оборвать. Вскоре Терентьев понял, что и это неверно. Никакие объяснения не подходили — только то, что они сама о себе говорила, так было проще и правильной. Простота эта оказалась из тех, что удивительны. Лариса была человеком того же мира, что и Терентьев, но жила в каком-то ином измерении.
Терентьев одолел наконец подъем, пересек шумную Сретенку. По мостовой двигалась колонна снегоочистителей, за ними тянулись самосвалы. Снег валил все гуще, железные щетки взметали его вверх — над колонной кружились снежные вихри, пронзенные прожекторами: неистовый свет словно гонялся за неистовым снегом, снег вспыхивал и осыпался тысячью тысяч ярких огоньков. «Хорошо! — подумал Терентьев. — Просто хорошо!»
Теперь он стоял у грохочущей Кировской. Машина теснила машину, из снега выплескивались длинные рукава света, улица гремела кузовами, шипела шинами, слепила и надвигалась сотнями белых и желтых фар. В ее пляшущий световой туман и гул движения внезапно врывались шум и свет бульвара, и улица замирала: бульвар проносился мимо трамваями, грузовиками, легковушками, на другую сторону улицы торопливо перебегали беспорядочные стайки людей, В одну из таких стаек занесло Терентьева, он тоже бежал вместе со всеми, хотя на другой стороне Кировской его ничего не ждало. В стороне сверкнул неоновыми огнями почтамт, впереди путеводно горела красная буква «М». В общий гам, словно капая в него мелодичным звоном, врезывалось тонкое, чужое всей этой нетерпеливой жизни и потону отчетливо слышное перезвякиванье колоколов: невидная отсюда Меньшикова церковь сзывала своих старушек к вечерне.
Терентьев вышел на Чистые пруды.
Он уселся на скамью, над ним нависали нагруженные снегом тополя, в воздухе носились, не падая, снежинки, их все прибывало. Справа мерно гудела Кировская, из-за крыш высунулась маковка Меньшиковой церкви. Колокола отзвонили свое и замолкли. Терентьев всматривался в летящие снежники, шептал про себя издавна любимые строчки: «Кружатся желтые листы и не хотят коснуться праха. О, неужели это ты, все то же наше чувство страха?» Он читал стихи, чтоб не думать о себе, не испытывать мучившего его стыда.
Недовольство собой не утихало в нем со дня разговора с Жигаловым, подступало к горлу, как отрыжка непереваренной пищи. Терентьев забывал о работе, пытаясь разобраться в себе.
Все дело было в том, что он оказался иным, чем привык думать о себе. Он поразился этому новому, незнакомому человеку, каким оказался. Он не хотел себя такого. Но другого Терентьева, которого он вообразил за долгие годы жизни, попросту не было.
Терентьев вспоминал чувства, с какими слушал доклад Черданцева, — горечь, возмущение, негодование. Они, конечно, были естественными, эти чувства, обычная реакция обиженного человека. Но сейчас ему казалось, что в них обычность мелочности, та естественность, которой естественны пыль и дурные запахи. С какой-то иной, только открывающейся Терентьеву точки зрения все эти испытанные им чувства представлялись некрасивыми, чуть ли не постыдными. Он хотел додумать это новое понимание до конца. Он шаг за шагом уходил все дальше, возврата к старому не было, новое упорно не определялось.
«Надо решить: как? — думал Терентьев, рассеянно рассматривая нарядную колокольню Меньшиковой церкви, следя за детишками, лепившими снежную бабу, прислушиваясь к гулу машин, доносившемуся от. Кировской. — Надо, надо окончательно все решить!»
Он шумно вздохнул, сдунул с воротника и с груди насевший снег, снова нетерпеливо и сумрачно размышлял. Теперь уж он но остановится на полдороге, за мыслями последуют действия, мысль без действия — пустота. Лавочники — так я подумал о себе и Щетинине. Да как я посмел? Послушай, я прав — не во всем, конечно, не во всем, словцо это придумалось сгоряча, — во многом прав… Черт знает что такое, на подходе к коммунизму, не в темную древность, мы, ученые, цвет общества, иногда превращаемся чуть ли не в каких-то хозяйчиков, возделывателей личных научных огородов, где за высокими стенами, охраняемая от посягательств со стороны, выращивается наша продукция — эксперименты, исследования, статьи. Любой наш институт — это же собрание кустарей, каждый до поры скрывает находки от соседей — научный секрет. А ведь наука не только предназначена для всех, как общее благо, но и немыслима без усилий всего общества; ее фундамент, ее исходный материал — механизмы, моторы, приборы, здания, коллективы рабочих и техников, энергия, химикаты… Наука индустриализуется, давно уже стало трюизмом говорить об этом. «В науке надо творить!» — твердит Михаил. Правильно, твори, но не превращай науку чуть ли не в свое личное хозяйство, в ней не один лишь твой труд! А если ты опять обвинишь меня в уравниловке, закричишь, что я отказываюсь от платы за работу, награды за успех, я скажу тебе снова: к черту уравниловку! Награждай мою особую роль в научных разработках званиями и степенями, зарплатой и орденами — я счастлив твоей высокой оценкой, я благодарен. Но не превращай награду в цель моего существования и труда; это стимул, согласен, но не цель, такой цели я не хочу, я не буду творить ради подобной цели, нет, мне нужна более высокая высота!
Да, творчество индивидуально — и тут прав Михаил, — но сотрудничество, но помощь товарищу — ученому, они всеобщи, они действуют в науке, как и на фабрике, как и в колхозе. Без сотрудничества само творчество скоро станет немыслимо, а мы забываем это, порою даже и не догадываемся. Дорогой Евгений Алексеевич, я честно взгляну вам в глаза, вы меня одобрите, знаю!
Терентьев встал со скамейки и пошел по аллее. Он чувствовал удивительное широкое спокойствие, в спокойствии этом, словно редкие кустики на необозримой песчаной равнине, сразу потерялись мучившие его мелкие тревоги и горести. Впереди лежал ясный путь, но нему надо было шагать не оглядываясь, шагать до конца — за край горизонта. Впервые за много дней Терентьеву было по-настоящему легко.