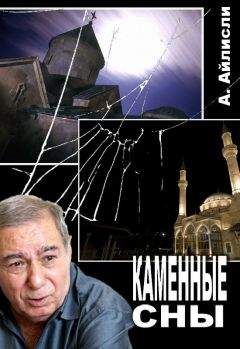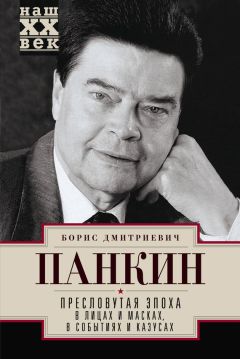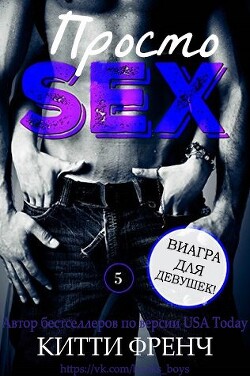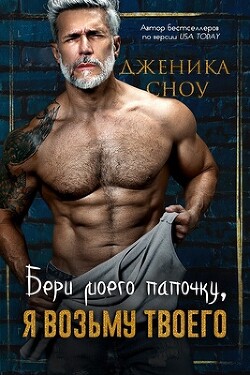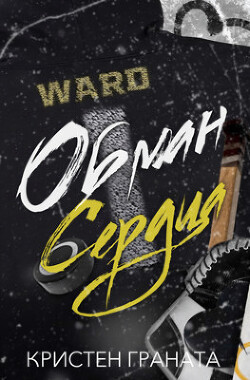СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН - После бури. Книга вторая
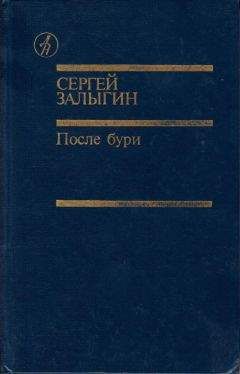
Помощь проекту
После бури. Книга вторая читать книгу онлайн
Он, конечно, несправедлив, вопиюще, чудовищно несправедлив, фанатичный, мрачный УУР (Уполномоченный Уголовного Розыска), требуя суда над интеллигенцией и обвиняя ее во всех смертных грехах. Она, мол, смутила и расколола народ, она-де подстрекала крестьянство к революции хотя сама еще не разобралась, какого хочет решения, какого порядка, какого счастья для мужика. А в результате — смута, разброд, кровопролитие. И та же интеллигенция увязла, запуталась в теориях, встала под разные знамена: одни — за красных, другие — за белых: «Да как же вы могли призывать народ к революции, когда сами не знали что это такое! Договорились бы между собой, а тогда и призывали бы, никак не раньше! А ежели вы стали призывать раньше того, то вот вам и результат: гражданская война — и вы, теоретики и философы, свою задачу перекладываете опять же на плечи народа ...»
Демагогический напор, чистой воды казуистика. Не замечать классового расслоения деревни и социальной пестроты самой интеллигенции, валить в одну кучу либералов и революционных демократов, прекраснодушных фразеров и борцов за справедливость? И хоть не велик из Корнилова спец по политике, даже он нашел аргументы против. Итак, антиподы — следователь и подследственный? Однако УУР разве не корниловской тоской по всеобщей идее болен, не его методологию подхватывает? И разве УУР не лекции Корнилова посещал в предвоенные времена, не его студентом значился? То-то и узнает герой в своем мучителе родственную душу, в воинственном обличителе интеллигенции терзаемого вечными вопросами интеллигента.
А совладелец буровой конторы Иван Ипполитович Глазунков? Уж от него-то, от своего компаньона, приват-доцент шарахается как от огня. Нелепый, несчастный и невезучий человек. Страдающий и от своей неустроенности, и от несовершенства мира. Сотворивший ад в собственной душе, изнывающий от обид на родительский дом, на неверную жену, на встречных и поперечных. И вместе с тем какая спесь, какая гордыня, какая мания величия! Притязания не на что-нибудь, а на истину в последней инстанции, на роль величайшего писателя, на первое место в литературе. Выше Толстого, выше Достоевского. Ведь Достоевский чем не угодил Ивану Ипполитовичу? Да тем, что окружил своего Родиона Раскольникова ореолом мученичества, страстотерпцем сделал. Тем, что разукрасил преступление психологическими терзаниями, идейными мотивировками, устроил из убийства «игру и развлечение для читателя», посеял сомнение: можно или нельзя? А убийство, «оно высокой, оно никакой мысли не знает, оно даже и не дело, а так, между делом, совершается». Ибо «там, где мысль, там не убивают».
Они наивны, глазунковские рецепты вразумления и спасения человечества посредством создаваемой им «Книги ужасов», этакой энциклопедии зла, посредством священного трепета перед любым преступлением, большим или малым. Наивны, но и понятны Корнилову тоже. Знакомый почерк, знакомая одержимость. Ведь юный Петя Корнилов и юный Ваня Глазунков были некогда в одном поиске, брели в одном направлении: «Ваня тоже ведь искал мысль общечеловеческую и общеобязательную, и она явилась к нему кошмаром «Книги ужасов», ужасов насилия, бессилия, а также блудного слова». И как бы ни старался Корнилов стряхнуть наваждение, избавиться от этого кошмара — даже зарыл дарованную ему «Книгу ужасов» в землю,— все тщетно. Болезненные идеи безумного компаньона настигали, проникали в душу, обосновались в ней, сомкнувшись с собственными корниловскими рассуждениями о возможном конце света, о всемирной катастрофе. Ибо горячечные апелляции к страху как к благодетельной панацее, страху как средству вразумления не лишены смысла. Быть может, не столь явного тогда, в двадцатые годы, но куда более отчетливого теперь, в восьмидесятые (время романного эпилога). После уроков второй мировой войны, уроков Хиросимы и Нагасаки. И не так уже беспочвен ныне категорический императив Ивана Ипполитовича: «Жизнь должна быть при «нельзя», при страхе она должна быть неизменной и в духе, и во плоти! «Нельзя», потому что ужасно, а больше ничего. «Нельзя» истолковывать не надо, потому что оно и есть превыше всего! Всех принципов!»
Что ни герой произведения, то своя программа, своя философия, своя логика решения глобальных проблем.
У Портнягина — через несознательность.
У Митрохина — через грамотность.
У Барышникова — через кооперацию.
У УУРа — через общинно-общественное воспитание.
Даже Сенушкин, тунеядец, мародер, любитель легкой наживы, и тот претендует на «общечеловеческую мудрость». А что? И у Сенушкина — свой опыт, свой расчет, свои поучения — пристроиться к распределителю благ, побольше «от мужика... заготавливать, на то он и мужик. Ежели не так сильно, как при разверстке военного коммунизма, ежели что мужику и оставлять, так все равно с тем же расчетом: взять с его когда-нибудь». Пакостные советы, хищнические, однако же и они не пропали втуне, не остались без применения. И система распределителей укоренилась, и с крестьянина попытались впоследствии брать что можно и что нельзя.
Все повествование Залыгина полнится проповедями, декларациями, манифестами. От широковещательных заявлений для е прессы (Казанцев, Митрохин) до откровений в узком кругу, перед каким-нибудь единственным слушателем (Иван Ипполитович). Причем ни у кого здесь нет монополии на правоту, на безошибочную оценку. Этакая разноголосица, этакая пестрота, этакая смесь завиральных идей с существенными. Озлобленный на интеллигенцию, готовый преследовать и искоренять ее, УУР тем не менее не слишком далек от истины, когда твердит: «Я — не против, мужики в коммуны сходятся — я не против, но как бы они тем самым лишнего масла и в без того горячие интеллигентские головы не подлили, а то уж и такой слышится разговор: «Ага! — они сходятся. Так загнать их в коммуны всех до одного — лучше будет! » Сегодня — лучше, а завтра — это станет одним-единственным способом мужицкой жизни...» А симпатичный, жизнерадостный УПК (Уполномоченный Промысловой Кооперации), враг праздных разговоров и перестраховочных подозрений, вдруг обнаруживает в своей кипучей деятельности опасную, чреватую механическим исполнительством тенденцию: «...ему все равно было что и как делать, лишь бы дело называлось службой».
Правда, по большей части споры и конфликты между проповедниками (особенно в первой книге) пока остаются в пределах теории, в сфере чистого духа. Пока, но надолго ли? Вон как наседает на кооператора Барышникова строгий, придирчивый Миша-комсомолец. Тот про нэп, про хозяйственную выгоду, про умение торговать, про взаимовыгодный союз государственного и кооперативного сектора, а этот: не зарывайся в экономику, не кичись прибылью, «политика... неизменно главнее всего остального! Она главнейший участок!» И, как ни крути, подчинит, окоротит Миша ловкого кооператора. Не теперь прижмет, так позже. Не он, так другие. Это Барышников видел в нэпе ладное дело, средство освобождения государства «от всякой мелочи, от мелочной торговли, от заботы пришивания каждой пуговицы на пинджаке каждого советского гражданина», а Миша-комсомолец, а Митрохин только «временность», только уступку.
От одной главы к другой усложняется в «После бури» образ времени, представление о тенденциях и подводных рифах тогдашней жизни. Они порой головокружительны, водовороты истории. Смена политики, смена лозунгов, смена настроений. И за иными трансформациями, за сгущением противоречий, за злобой дня, как за деревьями, уже не видать леса, теряется первоначальный замысел. Потому так обострено в романе ощущение основ, исходных ориентиров, так властен протест против «исказительства», против «уклонений», против «блудного слова».
Не случайно Корнилов начинает любой отсчет с азов — с Природы.
Не случайно Иван Ипполитович ставит во главу угла кусок хлеба. Поскольку «он, кусок тот, еще до науки и до политики существовал, он по первородности своей куда-а-а выше их всех находится».
В том же ряду первородных, исходных ценностей и сама революция, ее идеалы. Подводя итог своей жизни, своей духовной эпопеи, бывший генерал Бондарин как завещание оставляет Корнилову слова: «Социализм надо беречь! Ох как надо его беречь: другого-то случая человечеству, может, и не выпадет — спасти себя от гибели. Может, это случай — единственный?! Другого-то история никогда уже не предоставит?»
Да, революция занималась в крови, пожарищах, страданиях, но она несла надежду. Для человека и для всего человечества.
Спасение в союзе с природой и спасение революции. Эти положения в концепции романа равновелики, равноправны и нерасторжимы. Вспомним традиционные для писателя акценты: Единственное небо, Единственная земля. И революция тоже Единственная. Единственный шанс.
Первая книга «После бури», как я уже говорил, более мозаична, «осколочна», трактатна; ее тон задавали доморощенные мыслители. Вторая — более целостна, более эпична, что ли, более богата сюжетами истории, минувшей гражданской войны(взять хотя бы добротно, разносторонне исследованную борьбу генерала Бондарина), она обращена не только к «теориям», но и к непосредственной практике.