Малькольм Лаури - У подножия вулкана. Рассказы. Лесная тропа к роднику
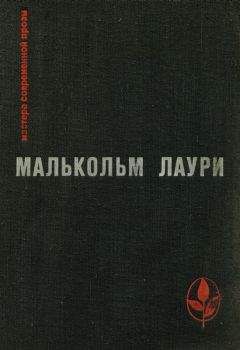
Помощь проекту
У подножия вулкана. Рассказы. Лесная тропа к роднику читать книгу онлайн
Одновременно и те мрачные мысли пришли опять, но совсем по-иному. Как это выразить? Я словно увидел их с расстояния, сверху. Или не увидел, а услышал; они текли, как река, как вода фиорда, несли в себе целый замысел, который невозможно было схватить и удержать в сознании. И пусть мысли эти были не радостными, как мне бы хотелось, а бездонно-черными, они радовали меня тем, что шли хотя и потоком, но упорядоченным: фиорд ведь не выходит из берегов, как ни высок прилив, и не пересыхает, вода убывает и вновь приходит, а по словам Квэггана, даже сразу способна идти и на прибыль и на убыль. И я ощутил, что осуществление замысла потребует от меня крайних, устрашающих усилий самонаблюдения. Но я, кажется, не сказал еще о моем замысле или, верней, о том, как я его понимал.
VII
Хотя на первый взгляд это и плохо вяжется с такими пренебрежительными упоминаниями о замысле, как «моя музыка», «приступы сочинительства» или «возня с опусом», но вот уже несколько месяцев меня неотступно преследовала мысль написать симфонию, в которую я среди прочего вложил бы (впервые в серьезной музыке, или так мне представлялось) подлинное чувство и ритм джаза. Плутая в сложностях моего призвания, тогда еще мной не раскрытого, я, однако, не разделял ходячего романтического мнения о превосходстве музыки над словом. Подчас мне даже казалось, что поэзия в силах достичь большего или по меньшей мере того же в своей области — в то время как музыка, язык которой обречен развиваться посредством все более сложных изобретений (я в этом не профан, ибо освоил почти случайно целотонную гамму), — музыка, думал я, идет, сама того не сознавая, к финальной немоте. Слово же — начало всего творения. Но я, как профессионал-джазист, давно считаю, что человеческий голос способен испортить инструментальную пьесу. И однако мы с женой любим петь, и сама наша совместная жизнь порой казалась мне песней.
Отлично помню, как продирался я сквозь все эти и многие другие противоречия и сложности. В конце концов я даже начал молиться, и вот недавно, перебирая уцелевшие от пожара ранние наброски, я наткнулся на обгорелый, крошащийся по краям отрывок партитуры с такими словами, написанными поперек нот: «Господи, горячо молю Тебя помочь мне привести мой труд, как он ни уродлив, хаотичен и греховен, в строй и вид, угодный Твоим очам, для чего труд этот, по слабому и смятенному моему разумению, должен, придерживаясь высочайших канонов искусства, пролагать в то же время новые пути и, где нужно, ломать старые правила. Он должен быть взволнованным, бурным, громовым, сквозь него должно звучать возвеселяющее слово Божье, вещая человеку надежду, по труд мой должен быть и соразмерен, истов, проникнут нежностью, и состраданием, и юмором. Я, исполненный греха, не в силах уйти от ложных представлений, но позволь мне быть Твоим верным слугой, сделать из этого великую и прекрасную вещь; и пусть побуждения мои темны, а наброски сумбурны и часто лишены смысла, но прошу — помоги мне навести порядок, а иначе я пропал…»
Однако, невзирая на молитвы, моя симфония упорно не желала упорядочиться, вылиться в музыку. А ведь я отчетливо видел, что надо делать. Слышал, как эти мысли — отчаливши от меня, словно от берега, — плывут, приобретая строй и лад. В них — лютая мука, но они ясны и самородны, и, возвратясь от родника домой, я снова попытался закрепить их на бумаге. Но тут осаждали меня новые трудности, так как до нот мне приходилось все записывать словами. Странно это было — я ведь в словах, в писательском деле ничего тогда не смыслил. Прочел я очень мало, моя жизнь вся заключалась в музыке. Мой отец — он первый посмеялся бы над такой манерой сочинения — в 1913 году валторнистом участвовал в первом исполнении «Весны священной» Стравинского. Отец водил дружбу с Сутиным, знал и уважал Кокто, хотя в иных отношениях оставался весьма чинным англичанином. Перед Стравинским он преклонялся (правда, отец умер примерно в моем нынешнем возрасте, не дожив до «Симфонии псалмов»). Так что я получил немало уроков композиции, и хотя остался без формального музыкального образования, но, можно сказать, был воспитан на детских пьесах Стравинского. Я перенял от отца его безграничное восхищение «Весной», но и сейчас считаю, что в одном важном аспекте она несовершенна ритмически (в детали вдаваться не стану) и что Стравинский, подобно большинству других современных композиторов, был несведущ в джазе. Пусть бессознательно, да и осознанно тоже, мой подход к серьезной музыке почти всецело определялся джазом; однако это джазово-ритмическое мерило оказалось крайне эффективным пробным камнем для отделения вещей первоклассных от не совсем первоклассных, для разграничения сочинений, сходных на вид или родственных по качеству и порыву. С этой ритмической точки зрения из современных творцов Шенберг и Берг одинаково перворазрядны; но если сравнить, скажем, Пуленка с Мийо, то первый достигает чего-то, второй же, на мой слух, ровным счетом ничего. Смысл моих слов, должно быть, в том, что у некоторых композиторов я слышу подспудное биение и ритм самой вселенной; но готов признать, что, мягко говоря, наивно выражаю свою идею. Однако я чувствовал, что как ни причудлив способ, каким хочет пробиться мое вдохновение, но пробиваться есть чему — своему, самобытному. Тут начиналась для меня новая честность, бескомпромиссность по отношению к правде, тогда как раньше у меня была честность лишь по отношению ко лжи и уверткам да в оценке мыслей, фраз, даже мелодий не моих, а чужих. И все же мне самому непонятна эта потребность прежде все выразить словом, чтобы не только услышать в музыке свои мысли, но увидеть словесно, прочесть. Однако каждый из живущих на земле является писателем в том смысле, в каком понимает это Ортега-и-Гассет — испанский философ, чьи книги я недавно брал у здешнего дачника, учителя по профессии, ставшего мне близким другом. У Ортеги сказано, что жизнь человека подобна повести, которую он пишет сам изо дня в день; как инженер — чертежи, так человек претворяет эту повесть в реальность, становясь инженером собственной жизни.
Должен сказать, что даже среди тягчайших творческих усилий я не чувствовал мук Жан-Кристофа: душа моя не «бурлила, как вино в бродильном чане» и мозг не «гудел горячечным гулом» — во всяком случае, этот гул не был чересчур громок; правда, жена всегда могла судить о градусе моего вдохновения по тому, насколько учащался темп пошмыгиваний носом, когда я уходил с головой в работу, а начиналось это у меня с глубоких вздохов и с рассеянного молчания. Не чувствовал я также, что «эта сила и я — мы одно. Истощится она, и я убью себя». Я, собственно, не сомневался, что как раз эта сила и убивает меня, хоть она и лишена всех упомянутых эффектных проявлений; и отлично, и пусть убивает — все мои стремления, кажется, к тому и сводились, чтобы умереть истощенным ею, — не навеки почить, разумеется, а так, чтобы затем возродиться.
На другой день, идя к роднику, я заранее решил не поддаваться иллюзии, но произошло почти в точности то же, что накануне: чувство повторилось, причем усиленное, так что мне даже показалось, будто тропа укоротилась с обоих концов. Я не только не заметил ни косогора, ни тяжести ноши, но и полностью подпал под впечатление, что дорога оттуда короче дороги туда, хотя и дорога туда тоже сократилась по сравнению со вчерашней. Домой я шел, будто летел по воздуху, и дома попытался описать жене свое чувство. Но как ни тщился, а ничего сказать не мог, кроме шаблонной фразы вроде: «С души у меня точно камень свалился». Было так, словно то, что раньше тянулось долго и мучительно, теперь мелькало настолько быстро, что в памяти не оставалось ничего; но притом ощущалось, будто миновал гораздо больший промежуток времени, и в этом промежутке случилось что-то огромной для меня важности — без моего ведома и совершенно вне времени.
Не удивительно, что мистики затрудняются описывать свои озарения; и пусть пережитое мной было не совсем из того разряда, но и оно казалось связано со светом, даже с ослепительным светом, и таким всплыло в памяти годы спустя: мне приснилось, что мое естество преображено в фиорд, внезапно насквозь просвеченный — но не вечерней луной, а восходящим солнцем (мы и эту картину не раз наблюдали); всего меня, всю душу пронизал отсвет солнца — солнца особенного, ибо когда я проснулся, то солнце это со своим светом и теплом само в духе Сведенборга[239] преобразилось в нечто абсолютно простое; в желание стать лучше, человечнее, способнее к доброте, пониманию, любви…
В тропинках, особенно лесных, всегда крылось и кроется что-то волшебное; с той поры я прочел уже много книг и знаю, что не только фольклор, но и поэзия изобилуют символическими сюжетами о тропах раздваивающихся, ведущих в золотое царство, к смерти или к жизни, о тропинках, где подстерегает волк или — почем знать? — кугуар, о тропках, заставляющих блуждать, о тропах, что разветвляются не на две, а на двадцать одну стежку, уводящую обратно в Эдем.

























