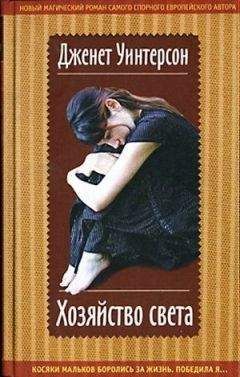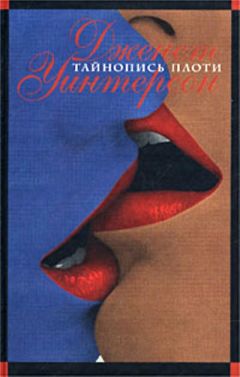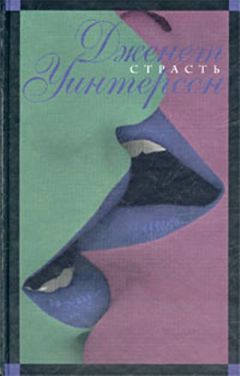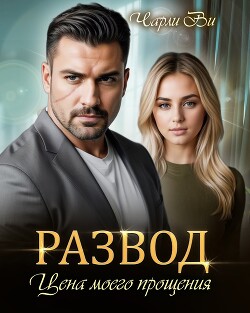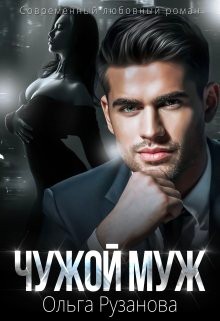Дженет Уинтерсон - Пьеса для трех голосов и сводни. Искусство и ложь
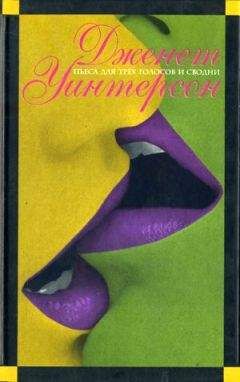
Помощь проекту
Пьеса для трех голосов и сводни. Искусство и ложь читать книгу онлайн
– Будьте добры, покажите мне чертежи первого этажа и фасада, – попросил я красивого молодого архитектора в крапчатых подтяжках. Я отвечал за бригаду, возводившую нашу новую частную раковую больницу.
– Чертежи? – повторил он таким тоном, будто я попросил его вынести ночные горшки. – Зачем? Лучше посмотрите предварительное видео. Дополнительную информацию я дам вам в наушники, и если вам концепция понравится, мы запустим несколько моделей в режиме редактирования.
Что?
Потом я видел его. Он проходил через вращающиеся двойные двери, одетый в американское пальто типа полушинели и мягкую фетровую шляпу.
– Ну, как Брифинг? – спросил его приятель.
– Старый крокодил немного артачится, а так все нормально.
Старый крокодил. Думаю, он имел в виду меня. Неужели я похож на Левиафана? Неужели похож на Гоббса? [7] Надеюсь, что нет. Может, и лестно иметь челюсть философа, но я бы предпочел, чтобы меня принимали за Декарта. Вы наверняка подумали: потому что Декарт – католик. Отнюдь нет. Потому что ему лучше всего думалось в теплице. У меня никогда не хватало терпения на Гоббса. Я могу иметь дело с а) атеистами, б) монархистами, в) номиналистами, г) материалистами. Но только не с человеком, который является всем этим одновременно.
Что ж, ублюдочная тень Гоббса еще продолжает витать над Городом. Нынче мы все атеисты, материалисты, номиналисты. Как ни странно, похоже, мы все более склоняемся к монархизму; честное слово, следовало бы упразднить короля, лишь бы избавиться от худших проявлений роялистской сентиментальности. Антикварные магазины ломятся от выцветших флагов «Юнион Джек» и коронационных кружек. Люди побогаче покупают безделушки из Виндзорского дворца. Слишком поздно; нельзя повернуть время вспять. Впрочем, прошу прощения за банальность: видит Бог, мы превращаем день в ночь, когда это касается наших предрассудков. Нет, в унылом мире Гоббса, где религия считается пережитком и единственно возможными становятся поступки, совершаемые ради собственной выгоды, любовь мертва. Этот молодой человек в крапчатых подтяжках считает меня дураком, потому что я слушаю оперу, хожу к мессе и тихо сижу над книгой, которая лучше меня. Какой в этом толк? Какой толк в том, чтобы любить Господа, погружать руки в темно-красную землю моего палисадника и испытывать при этом страсть, которая является не обладанием, а пониманием? Какой толк верить в то, что красота есть Бог, если метафизика продала ее с лотка?
Конечно, мы заводим амуры. Каждый знает, насколько полезен роман. Даже газетам нравятся любовные истории. У них нет другого выхода; они вынуждены это печатать. Тревоги окружающего мира отравляют душу и ум до такой степени, что для спасения оставшихся в нас крох человечности требуется сильное противоядие. Я не машина, но могу впитать лишь определенную часть несчастий, переживаемых особями моего вида; слезы кончаются, им на смену приходит отупение, а отупение сменяется ужасающей черствостью, когда смотришь на чужие страдания и не ощущаешь их.
Разве не факт, что нас уже ничто не потрясает? Что фотографии людских бед, которые тридцать лет назад заставляли нас устраивать демонстрации протеста, теперь мельтешат у нас перед глазами, а мы едва замечаем их? Кадры, мелькающие в сводках теленовостей, стали нагляднее, графичнее, даже порнографичнее. Они должны пробудить в нас чувство, но мы – избитые боксеры: пропускаем удар за ударом и не замечаем вреда, который они наносят.
Любой репортаж – насилие. Насилие над духом. Насилие над сочувствием, которое должно возникать в вас и во мне, когда мы лицом к лицу сталкиваемся с болью. Мимо скольких потерпевших крушение мы проходим и отталкиваем их, торопясь домой, чтобы посмотреть вечерние новости? «Ужасно», – говорите вы, глядя на Сомали, Боснию, Эфиопию, Россию, Китай, землетрясение в Индии, наводнения в Америке, – а затем смотрите телевикторину или фильм, потому что ничего не можете поделать, ровным счетом ничего, а следом тащатся страх и тревога, порожденные таким бессилием, каменное равнодушие к нищему на мосту, мимо которого вы проходите каждый день. У него ведь есть ноги и картонный ящик, в котором можно спать?
И все же мы хотим чувствовать. Что нам остается? Только романы. Любовь освобождает нас от чувства вины. Упади в мои объятья, и мир с его скорбями сморщится до размеров шарика из фольги. Это любимое противоядие от жизни холодного робота, равнодушного к далекому злу и близкой апатии. Апатии. От греческого «а патос». Нехватка чувства. Но разве мы не знаем, что достаточно найти подходящего парня или подходящую девушку, и чувства будут твоими? Коллеги говорят мне, что я нуждаюсь именно в таком лекарстве. Погрузись по шею в розовую пену, и больше ничто не причинит тебе боли. И чувствовать – безопасно. Я чувствую только тебя, дорогая.
Я стоял на перроне и ждал поезда, когда ко мне подошла женщина с увядшей красной розой в целлофановой обертке.
– Купите на счастье.
– И когда оно настанет?
– Когда вы влюбитесь. Вам предстоит роман. С высокой белокурой леди. Я вижу.
– Романы меня не интересуют.
Она посмотрела на меня так, словно я произнес богохульство посреди храма; думаю, мы действительно были в своего рода храме. В передвижном храме сентиментальности. Храме-шапито, который тут же развертывается над головой.
Она ушла и стала предлагать свои изможденные розы другим. Кое-кто с удовольствием покупал их. Я не осуждаю этих людей. Мир мертвецов голодает по чувствам, но должен быть какой-то иной способ насытиться.
Моя собственная строгость – если не сказать суровость – сродни тем магическим перевязям, что рыцари надевали, отправляясь сражаться с драконами. Глупо, конечно, но меня она защищает, напоминая о том, что мне дорого. А мне дороги не дешевые интрижки и легкие связи, распространенные в мире, который вынесло в открытое море. Я тоже тоскую по чувствам – но по чувствам глубоким и искренним. Коллеги считают меня человеком отчужденным, но если я и не знаю, что такое чувство, по крайней мере я не хочу иметь ничего общего с тем, что чувством не является.
Когда я добрался до страницы 325, меня отвлек байронический грохот. Поезд-пулю стоимостью в 50 000 000 долларов постоянно тормозил недостаток топлива – он величественно продвигался вперед со скоростью пятьдесят миль в час. В этом есть свой романтический пафос, не так ли?
Мужчина знал, что поезд едет прямо к солнцу. Его руки и лицо горели. Он становился именно тем, чего боялся. Боялся красных лучей, штыковых ударов жара, боялся прикосновения раскаленных щипцов к вискам. Боялся сильных горячих рук, что повлекут его наружу и вытащат из темного вагона, где ему так безопасно.
Он слышал звяканье жестяных подносов и жесткий голос акушера, раздвинувшего ноги его матери и положившего их в два металлических желоба. Бежать некуда; нет ничего, кроме грохочущей в ушах крови и кроваво-красного солнца над головой.
Он потерял сознание.
Новорожденный был прозрачным. Врач поднял его вверх, поднес к окну и стал следить за светом, пробивавшимся сквозь крошечную печень. Младенец был прекрасен, и на мгновение врачу показалось, что он смотрит сквозь линзу на незнакомый мир. Но солнце было слишком ярким, и ему пришлось задернуть шторы.
Однажды ночью меня вызвали к роженице. Это не моя область. Я не люблю стремена и скальпели, щипцы и тонкие презервативы перчаток. Но поехать пришлось. У меня есть обязательства перед благотворительным обществом, которому я пытаюсь помогать, так что поехать пришлось. Было поздно, я только что вернулся из оперы и не успел снять дурацкий фрак.
Была зима. Закон о Чистоте Воздуха в трущобах не действует. Их обитатели жгут все, что могут: тряпки, шины, тела. Крематорий – место очень тихое. Я пересек реку, проехав по Башенному мосту. Огромные, мощенные булыжником челюсти моста раскрылись, пропуская невидимый в тумане пароход. Я слышал звон колокола и слабый скрип огромных цепей, на которых висел мост. Мне послышался и бой, барабанный бой шагов в мертвой тишине, окутавшей Тауэр. Помню тонкие решетки, вмурованные в толстый камень. Но видел ли я чье-нибудь лицо?
Внизу струилась серая вода, проталкиваясь мимо безлюдных пристаней. Я хорошо знал дорогу. Мать часто водила меня в Тауэр на каникулах. Одного из моих предков там казнили. Как и я, он был католиком.
Дорогу я знал, но улицы – как и все улицы Сити – постоянно ремонтировались. А если не ремонтировались, то их перекрывали на случай очередной демонстрации. На случай бомб. Ради Общественного Блага. В те дни обществу делалось столько блага, что странно, как мы все не стали святыми.
Мне наития свыше не дано, а путеводитель я забыл дома. Наконец – частично из-за усталости, частично отчаявшись видеть все новые трепещущие оранжевые ленты и очередные ограждения, – я плюнул на все и свернул на улицу с односторонним движением, где маячили узкие дома, напоминавшие полицейские дубинки. Темнота, туман, грязь, старуха толкала перед собой детскую коляску на высоких колесах. Я попытался объехать ее и врезался бампером в кирпичную стену. Пустяки, это всего лишь «Даймлер».