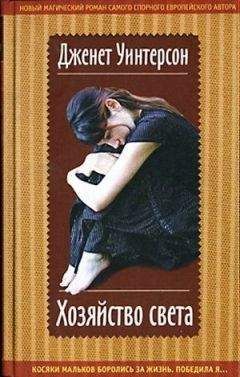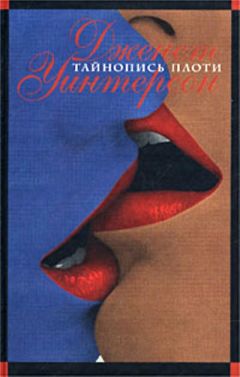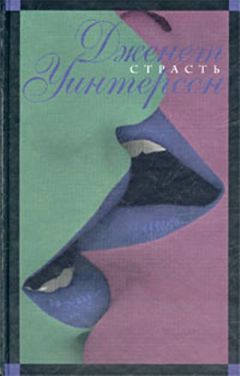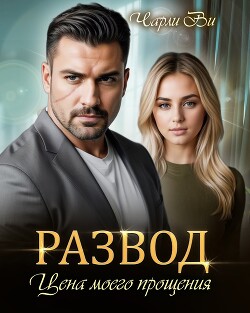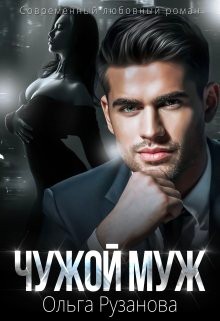Дженет Уинтерсон - Пьеса для трех голосов и сводни. Искусство и ложь
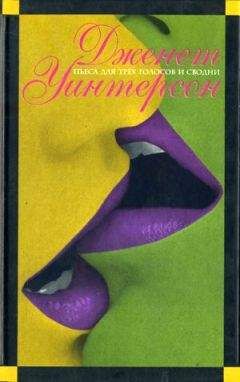
Помощь проекту
Пьеса для трех голосов и сводни. Искусство и ложь читать книгу онлайн
Дорогу я знал, но улицы – как и все улицы Сити – постоянно ремонтировались. А если не ремонтировались, то их перекрывали на случай очередной демонстрации. На случай бомб. Ради Общественного Блага. В те дни обществу делалось столько блага, что странно, как мы все не стали святыми.
Мне наития свыше не дано, а путеводитель я забыл дома. Наконец – частично из-за усталости, частично отчаявшись видеть все новые трепещущие оранжевые ленты и очередные ограждения, – я плюнул на все и свернул на улицу с односторонним движением, где маячили узкие дома, напоминавшие полицейские дубинки. Темнота, туман, грязь, старуха толкала перед собой детскую коляску на высоких колесах. Я попытался объехать ее и врезался бампером в кирпичную стену. Пустяки, это всего лишь «Даймлер».
В общем, долго ли, коротко ли, но я нашел дом, который искал. В незашторенных окнах мигал голубоватый свет. Электричество дорого, однако при мерцающем свете телеэкрана вполне можно заварить чай и выпить чашечку-другую.
«Гендель, когда ты вырастешь, то должен будешь принести в этот мир немного добра». Я держал мягкую материнскую руку и спешил за ее каблуками-шпильками. Я видел ее только раз в день – на совместной прогулке в три часа. Мать была высокой колонной, закутанной в серебристый мех. А отец – памятником из твида. Я тогда не имел представления, что на свете вообще существует уязвимая плоть.
На кровати лежала обнаженная женщина. Она разорвала свое хлопчатобумажное платье. Ее мужчина этими лоскутами вытирал ей лицо. В комнате не было света, если не считать коптящего керосинового фонаря. Вроде того, которым пользуются в гаражах.
Я попросил горячей воды. Ее не было.
Попросил кусок чистой ткани. Ее не было тоже.
Мне хотелось закричать: «Да что же это такое? Сцена из Диккенса?» Они оба пялились на мой вечерний костюм. А что я сам об этом думаю? Действительно сцена из Диккенса?
Я снял с себя фрак, манишку, жилетку и жесткую от крахмала рубашку. Разрезал рубашку на шесть чистых лоскутов и дал мужчине денег, чтобы тот мог купить горячей воды у соседей. Он ушел. В комнате было тихо. Женщина лежала и смотрела на меня.
– Застрял.
– Да.
Я опустился на колени и провел ладонями по ее торжествующему животу. Как она не лопнула? Я знаю «как», я врач, и все же – как она не лопнула? Ее кожа натянулась со рвением мебельной обивки. Женщина была гладкой, совершенной, без морщин, без складок, если не считать выпуклости на животе, напоминавшей круглый табачный кисет. Коричневый табачный кисет.
Она раздвинула ноги, и я уныло опустился между ними на колени. Я никогда не видел женскую… женскую… как это называется? Вагина? Бесконечные поперечные разрезы, взрывающиеся в мозгу диаграммы, образцы, обработанные формальдегидом, сморщенная, высушенная на солнце вагина. Бобрик? Не годится. Ничего похожего ни на бобрик, ни на киску, ни на лисичку. Срамные губы? Что же срамного в этих нежных складках и монашеском клобуке, который скрывает… скрывает… бусинку, косточку, зернышко, жемчужину, пуговку, горошинку…
– Поскорее, пожалуйста.
Чтобы взяться за головку, я должен был проникнуть в нее, но у меня грязные руки. А вдруг я заражу ее? Или она меня?
Младенец еще раз попытался вырваться наружу, и она закричала. Если бы я отвез ее в больницу, у нее бы отобрали ребенка. Скорее всего, в Лондоне она нелегально.
На полу стояла бутылка водки. Слава богу, что не джин. Тогда был бы вылитый Диккенс.
Я хмыкнул и поднял ее. На дне еще оставалась пара дюймов жидкости.
– Это мне от боли.
Я плеснул водкой на руки и вымыл их.
– Вы еврей? – спросила она.
– Радуйтесь, что не акушер. Иначе мне пришлось бы разрезать вас напополам. Причем немедленно.
Она умолкла. И кричать перестала. Женщина молчала, и когда я ввел руку в окровавленное тепло ее тела. Лежала тихо, с достоинством раздавшись вширь. Зато я извивался всем телом, потел, пригнувшись, выгибал спину. Мои волосы падали на ее ляжки.
Она стала рожать. То был дар – дар жизни холодной, мертвой комнате и холодным, мертвым улицам. Малышка была готова. Малышка скользила по родовому каналу в этот тревожный мир. Я вытягивал ее так бережно, словно она была моей собственной. Она и была моей. Я перерезал прикреплявшую ее пуповину; девочка освободилась и уже сама по себе легла на окровавленный живот матери.
Мужчина вернулся с тазиком тепловатой воды и двумя бутылками водки. К его искреннему ужасу, я взял одну и до последней капли вылил ее в тазик.
– Он еврей, – сказала мать.
Я тщательно вымыл ей ляжки и длинные темные половые губы. Затем вытер их остатками моей рубашки и укрыл обеих пледом, который принес из машины. Хотел вымыть и ребенка, но подумал: «Гендель, ей известен только запах, у нее пока есть лишь обоняние, ступай прочь, Гендель».
Я надел фрак, собрал свои вещи и закрыл дверь, пообещав вернуться через пару дней. Я оставил им немного денег.
Взошла луна, и холод превратил туман в коричневые бруски. Я ехал задним ходом по склизкой улице с незажженными фонарями.
Второй Город – политический. Город политики трущоб, многоквартирных жилых домов, особняков. Следует поддерживать равновесие. Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы особняков было слишком много, а трущоб слишком мало. Равновесие поддерживают многоквартирные дома; богатые боятся очутиться в тесных квартирах, бедные мечтают получить их в собственность. Политический город стоит на страхе. Страхе никогда не иметь собственную квартиру. Страхе иметь всего лишь квартиру.
Бездомность незаконна. В моем городе нет бездомных, хотя все больше преступников живет на улице. Превратить класс обездоленных в класс преступников было очень умно; люди иногда жалеют нищих и отверженных, но преступников не жалеют никогда. Это великолепно поддерживает стабильность.
Я припарковал машину у дома и вышел в плотный, липкий туман, думая о старушечьих шторах. Там, где туман раздавался в стороны, на улицы все еще падал тусклый свет, пачкая их, выставляя напоказ этот больной город с его отданной в залог и не выкупленной назад красотой.
Я лег в свою белоснежную постель и забылся беспокойным сном. Мне снилось, что мое тело стало прозрачным, что солнце бьет в мою печень, как в барабан, и превращает мой позвоночник в желтые клавиши, на которых я могу брать октавы обеими руками.
Несколько дней спустя я выполнил обещание и вернулся. Через дорогу кучка скваттеров наблюдала, как патрульная бригада приваривает к завалившемуся проему стальную дверь. Я подошел и спросил одного рабочего, что случилось с людьми, которые здесь жили. Тот пожал плечами и продолжил свое дело. Я понял, что мужчина этот, как все рабочие, давно разучился говорить. Он лишь ткнул ацетиленовой горелкой в сторону синего фургона без окон.
На продавленном переднем сиденье развалились, задрав ноги на приборную доску, два человека. Не мигая, они смотрели в грязное лобовое стекло и слушали включенное на полную мощь радио. Обоим лет по двадцать пять. Казалось, они мертвые. Я постучал в стекло; один медленно-медленно повернул голову и посмотрел на меня сверху вниз так, словно я был человеком. Я ткнул ему свою медицинскую карточку, и он медленно-медленно опустил стекло.
– Вы не могли бы мне помочь? Я пытаюсь найти людей, которые жили в этом доме.
– Это не по моей части.
– Вы знаете, где они?
– Нет.
Молодой человек поднял стекло, но напарник что-то сказал ему, даже не шевельнув губами, и стекло снова поползло вниз.
– Вы из Отдела по борьбе с паразитами? Они были «Эльф Аззад»?
– Простите, что?
– У них был сифак?
– Нет. Но у одного родился ребенок.
Я не сентиментален. Каждую неделю под моими руками проходят жизнь и смерть, и это выработало во мне определенную сдержанность. Близкое знакомство со смертью сделало некоторых моих коллег погрубее, кем-то вроде участников danse macabre [8]. Постоянный контакт с тем, что кажется им злой судьбой: злой, ибо не скрашена никакой духовностью, а судьбой, ибо неминуема, неотвратима и глуха к жалобам, – воспитал в них любовь к гротеску. В этих современных людях есть что-то от жителей средневековья, которые всегда высмеивали то, чего боялись. Мрачные, циничные шутки и удовольствие от собственной развращенности есть отличительная особенность большинства моих выдающихся товарищей по профессии. Я смотрю на них и вижу не светил современной науки, а испуганных крестьян четырнадцатого века, вырезающих Мертвую Голову в какой-нибудь глухой деревушке на Рейне.
А что же я сам? Я, кто часто склонялся над безжизненным телом, когда оно затихало и вытягивалось? После смерти следы, оставленные на лице суетой, тщеславием и мелкими или крупными заботами, начинают исчезать; его черты становятся проще и достойнее; остаются лишь абстрактные линии, да и те исполнены величайшего безразличия. Возможно, смерть действительно успокаивает своей печатью. Помедли, пока это временное величие не раскололось, – там остается не ужас, не страх, но глубокая жалость. Pieta [9] Девы-Матери над телом усопшего Христа. Мадонна Скорбящая. Жалость матери, оплакивающей свое дитя.