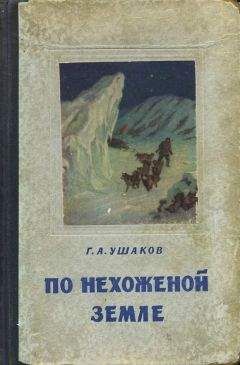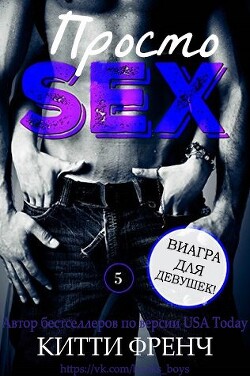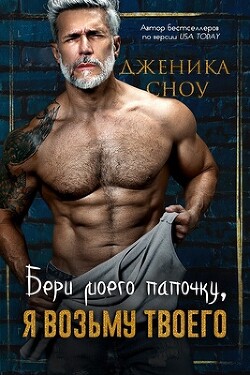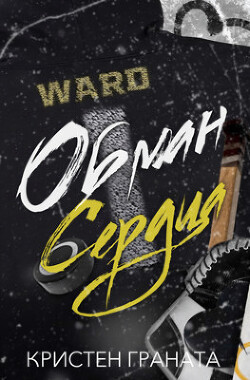Владимир Маканин - Голоса

Помощь проекту
Голоса читать книгу онлайн
— Вот погодите. Вот я влезу туда — и покажу им, как надо делить.
Отец Кольки был человек, травмированный войной, слабовольный, придавленный женой и тихий, точнее сказать, смирный, однако с внутренней и тщательно скрываемой жаждой — дожить жизнь как жизнь. Сам с собой отец Кольки вел такие, неслышные другим разговоры:
— За плечами вся жизнь — а я еще не отдохнул.
Или:
— Прожита жизнь, а я ничего не видел…
Или:
— Жизнь прожил, а еще и не любил никого по-настоящему…
Был он преподавателем техникума; рассказывая об изоляционных материалах, он время от времени платонически влюблялся то в одну, то в другую студенточку, подолгу раздумывая и колеблясь, стоит она или не стоит его любви — отдать ей или не отдать остаток своей жизни. Он их разглядывал, перебирал, одну за другой браковал и боязливо играл глазами, — студенточки считали его чудаком. Они считали его контуженным. Занятия он вел замедленно-замогильным голосом. Сына своего он воспринимал как очередную неудачу в жизни. Отец считал, что он стоил лучшей доли, он считал, что он стоил лучшего сына.
— Вот и здесь мне не повезло… Горе ты мое, — начинал он вдруг со вздохом. И тихо (и не без опаски) пытался положить руку на голову сына.
Иногда среди ночи отец свешивал ноги с кровати, выходил в коридор барака и курил — думал о тяжелой своей жизни. Жизнь проходила, а отец, как ему казалось, очень мало узнал и очень мало увидел.
— Я никогда,— тихим и укоряющим себя самого голосом начинал он, — не ловил сетями рыбу. Никогда…
Или:
— Я никогда не видел города Гурьева.
И он уезжал с кем-нибудь в недалекий Гурьев. Или на озерную рыбалку. Он возвращался и тихо оправдывался, тихо и прибито сносил крики жены, — тихо и потаенно он тоже хотел прожить собственную жизнь. Он только об этом и думал и был похож на человека, который мучительно не понимает, почему из отдельных капель никак не соберется в целое дождь.
Сестра — а она была старше Кольки Мистера на три года — была прежде всего отличница. Это верно, что она была человечек глубоко порядочный; ни артистически-энергичная деловитость матери, ни скрытая и тихая фальшь отца не передались ей ни граммом. Но именно поэтому ее душа сформировалась и съежилась в сторону сухости. Она была тихоня в школе. Тихоня на улице. Тихоня дома. Напряженно следящая за своими оценками отличница, она, затаившись, ждала дня и часа, чтобы побыстрее получить свою золотую медаль и уехать в какой-нибудь университет — Свердловский или Саратовский — уехать, уйти, убежать и, вынырнув где-то, начать жить снова и заново. Сестра Кольки была непоколебима в своем и ничуть не боялась, скажем, упреков от своих подружек и одноклассниц в том, что она, мол, льнет к учителям, — она была выше упреков. Она приходила вечером к той или иной учительнице, сидела у нее, беседовала, пила чай и выбирала себе книги, — учительницы ее не любили, но уважали и честно делали свое учительское дело, держа свои двери для нее открытыми и свой чай горячим.
— … Позоришь нашу семью — вор! мелкий воришка! — громоподобно кричала мать, когда Кольку Мистера и меня поймали с картошкой, которую мы надергали, чтобы нести в горы. Не проронив ни слова, потемнев лицом, сестра тут же собирала тетрадки и уходила к учительнице. Звали сестру Олей, Оля-отличница. Она шла к учительнице, чтобы поупражняться в решении логарифмических уравнений, — она шла по улице поселка, зажав тетрадки, и повторяла бескровными губами (чтобы время, пока она идет, не пропало зря) выученное наизусть:
Октябрь уж наступил. Уж роща отряхает
Последние листы с нагих своих ветвей… —
а мать ее в тот день специально отпросилась с работы — она пришла, чтобы пороть Мистера за мелкое воровство и чтобы порок этот в нем не угнездился на будущее. Мать пришла не одна, а с подругой — и вот две сорокалетние женщины с суровой решительностью принялись за дело. Дело предстояло, в общем, нетрудное и обычное. Меня они не тронули: пусть его дома свои порют. Но и не выпустили — пусть смотрит. Они схватили меня, когда я хотел выскочить в окно.
— Э, нет. — И окно заперли. Я стоял, озираясь волчонком, пока до меня доходил их сложный замысел. Мать закричала на Кольку, она должна была себя взвинтить — она кричала, что семья их была и будет, пока она жива, достойной семьей и честной. Как раз в эти дни ее бригада вновь выдвинулась, и мать находилась как бы на взлете, — и потому, быть может, она и вторая женщина-маляр кричали, хорошо слыша собственные правильные слова: «Честным становятся с детства!» — «Все начинается с пустяков — с картошки!..» — Они перебивали и взвинчивали друг друга — он же стоял напротив, маленький старичок, спокойный и проницательный, и только нависшая конкретная опасность не давала ему улыбнуться нехорошей своей улыбочкой. Наконец они схватили его за плечи, как куклу, но кукла была, в общем, начеку и успела произнести — как всегда негромко:
— Ну вы, поосторожнее. Не сломайте мою пипиську.
Они на миг приостановились, на миг попридержали свои большие руки — и теперь Мистер, уже успокоившись, что сгоряча они его не изуродуют, сам пошел к кровати. Он лег лицом в подушку. Лицо было вполоборота к стене. Женщины вновь закричали, набирая из недр инерцию движения и расправы — неужели он хочет всю жизнь быть воришкой? Неужели он не поймет раз и навсегда?.. Появился ремень, и мать била Мистера по тощему заду — не так чтобы сильно и зло, однако постепенно входя в ритм и в азарт. А женщина-маляр выкрикивала, как бы сопровождая педагогикой эти удары. Она выкрикивала громко. Потом тише. Потом еще тише. И вот — в голосе ее появились первые нотки подведения итогов:
— … Теперь он поймет… Теперь он умнее будет.
И обернувшись ко мне:
— А ты смотри и думай. Тебе это на пользу.
Мистер поднялся. Он был бледен, но не озлен. Губы прыгали. Но он довольно спокойно сидел на кровати — он смотрел то ли на меня, то ли куда-то в пространство и словно вот-вот хотел произнести одну из расхожих своих фраз: не могли обойтись без цирка, оссподи…
Мать заговорила:
— … Хотим, чтобы ты был хорошим мальчиком и честным. Я ведь тебя люблю — как ты думаешь, кого я люблю больше всех на свете?
— Меня, — согласно и негромко поддакнул Мистер. Он заправлял в штаны рубашку. Она выбилась.
— Ну вот… Ты же мой любимый, сам знаешь. Ты же мой любимый, мой больной — как ты думаешь, почему больного ребенка мать всегда любит больше?
— Ну не надо, мам, не надо, — сказал он сдержанно и терпеливо и вновь очень негромко. Он заправлял рубашку и отряхивался, словно порка его запылила и теперь необходимо было почиститься. Губы уже не дрожали, но руки его все время делали какие-то мелкие движения.
Вскоре он начал копить и откладывать рубли про черный день, как это делают в старости; время, как известно, относительно, — жизнь Кольки Мистера кончалась, и потому в двенадцать лет он уже был и находился в своей старости. Отец, заметив отложенные деньги, сказал ему как-то с укоризной:
— Если ты такой сейчас — каким ты вырастешь? — Колька смолчал, он не ответил ему, каким он вырастет, — он уже вырос. Он работал в артели, а ночами бродяжил, он был человеком вполне самостоятельным и вполне подневольным, короче — взрослым. Жизнь уместилась для него в крайне короткий промежуток, и одиннадцать-двенадцать лет были для него, как шестьдесят для всех прочих, а перевалив шестьдесят, откладывать деньги про запас вполне естественно. Но меня в то время больше поражали мелочи — как он ловил сусликов. Или как научился сосать козу, пасущуюся меж поселком и горами; мы приходили к ней с крошками хлеба, мы подлазили к ней осторожно и с уговорами, пока она не стала покладистой. Колька Мистер был изобретателен как в поиске, так и в самозащите. Он уже глядел вперед. Однажды мы высосали присмиревшую козу до дна, и он вздохнул, как вздыхают умудренные опытом старички:
— Вот увидишь — хозяева ее скоро прирежут.
Испугавшись, я забормотал:
— Давай сосать ее редко, тогда не прирежут.
— Да черт с ней, — сказал Мистер. И добавил, еще раз вздохнув, как старичок: — Другого опасаюсь.
— Чего?
— Как бы они не стали ее лечить.
И точно. Очень скоро козу накормили каким-то лечебным домашним зельем, глаза ее потухли, она стояла без движения, как стоял столбик, к которому она была привязана, а у нас начались рези и жесточайший понос. В первый день мы еле выжили, мы хватались за животы и ползали по горам на четвереньках, — а коза стояла за ручьем в кустах шиповника. От столбика в полдень падала короткая тень, коза стояла в двух шагах от колючек шиповника и жевала траву. Она и сейчас там стоит для меня как живая. Из деревни приехал мой дед, увидел ее и сказал коротко: «Это не коза», — мы шли с дедом по поселку, я показывал ему свои владения: школу, пустырь, горы — и хорошо помню, как он оглядел худое, несчастное существо, привязанное к колышку, и упрямо повторил: «Это не коза». Деду было семьдесят лет, он был громадный деревенский неряшливый мужик с седой бородой. На другой день я поехал с дедом в деревню. Зачем меня отправили с ним, уже не помню, — зато я помню, как мы вылезли из грузовика и по дороге дед заглянул в стоявшую на въезде в Ново-Покровку старенькую церковь, — он вошел туда и час-полтора слушал спевку, а я сидел возле церкви, ковыряя в носу, и томился от жары и безделья.