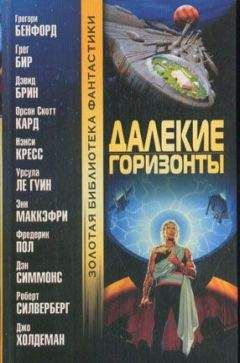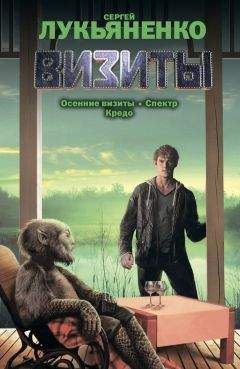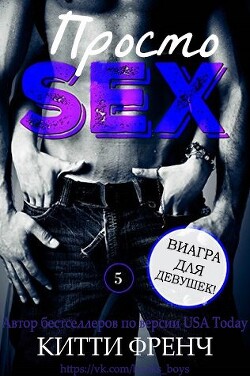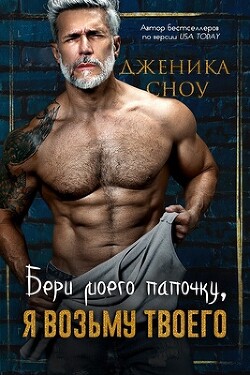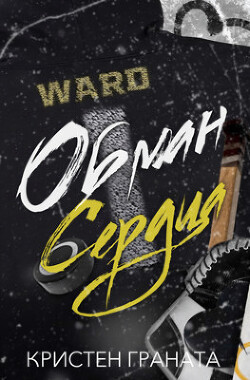Александр Мелихов - Любовь к отеческим гробам

Помощь проекту
Любовь к отеческим гробам читать книгу онлайн
Больше всего она любила благолепие – “людюшки” дружно сидят за столом или дружно работают “вместечки”, коровы хрупают сеном и умиротворенно отдают молоко, собаки ластятся к хозяевам и ярятся на чужих (но только на цепи), младенцы взахлеб глотают молочко, земля напитывает сытностью картошечку… Довольно долго эта каратаевщина меня тоже умиляла, но когда мне пришлось
“вместечки” с Бабушкой Феней принимать какие-то решения и проводить их в жизнь, я обнаружил, что она в любой момент готова пожертвовать истиной и целесообразностью ради сиюминутного переживания мировой гармонии. М-гармонии. В любом планировании она видела душевную черствость, граничащую с низостью, а то и с жестокостью. Все должно делаться само собой, как сама собой наливается соком клюква на болоте. Если вдруг обнаружилось, что
“усе бабы” попокупали новые ведра, а “в одних в нас” чернеют язвы по зеленой эмали – надо немедля кидаться в магазин за новыми ведрами, пренебрегая низкими опасениями, что денег может не хватить до зарплаты: когда не хватит, тогда и будем думать. А составить заранее перечень расходов первой необходимости и посмотреть, останется ли на ведра, – от такой расчетливости ее с души воротило. Как меня воротило от ее категорического нежелания признать ту очевидность, что Леша пьет, – нет, он не “пьеть”, а только “выпиваить”. После очередного его безобразного загула она могла проклясть его страшными словами: “Чтоб и к гробу не допустили!” – а потом снова отрицать и самый факт его пьянства.
Это безмятежное презрение к истине – многолетняя пытка этим презрением, – отчасти и она подвинула меня к наиболее изуверским и самоубийственным формам культа правды без прикрас. То есть без признаков жизни.
Вся до мозолей, казалось, от мира сего, от крестьянского мира, от земли и от сохи, Бабушка Феня была необузданной наркоманкой, возводящей приятное переживание неизмеримо выше дела, когда на карту ставилось согласие с миром: она не ощущала благолепия в том, что требовало воли и предусмотрительности, а потому решительно не желала с ними знаться. Если ребенок просит конфет, надо ему сначала дать – “ён же ж просить!” – а уж только потом сокрушаться, что “ён не хочеть вужинать”. Если “ён не хочеть” делать уроки, а “хочеть” в Дистанцию глядеть кино – пусть глядит. Ну а когда он и раз, и два, как это было с Лешей, провалится в институт, только тогда – не раньше – можно начать всплескивать руками, до чего “яму не везеть”. (Леша, правда, постоянно посмеивался, что при нашем с Катькой университете он получает больше нас, вместе взятых.) Случалось, я почти ненавидел ее – как и она меня (но ей, я уверен, ни разу не пришло в голову определить мою бессердечность как еврейскую, тогда как я не раз испытывал соблазн квалифицировать ее безмозглость как именно русскую черту), – когда я видел, какими сволочатами становятся с нею мои милые детки. Однажды я застал, как пятилетний Митька, загнав в угол, пинает ее валеночками в галошах – пришлось, внутренне съежась, отвесить ему затрещину.
Он завыл, она запричитала, я с трясущимися руками… В ее соседстве мне автоматически отводилась роль деспота, который только требует, требует, требует – хотя вот же рядом человек еще более взрослый все разрешает, разрешает, разрешает…
Чтобы нейтрализовать этот дух квиетизма, я довольно вяло препятствовал нарастающей иронии взрослеющих детей в их отношении к вечному детству бабушки. “Усе собрались, – разнеженно припоминает она, – Онисим, Яхрем…” – “Трифилий,
Дула и Варахасий”, – радостно доканчивает второклассник Митька, только что прочитавший “Шинель”. “Абакан (Аввакум), Фрол…” – начинает хмуриться Бабушка Феня. “Павсикахий и Вахтисий”. “Он мене совсем не вважаить”, – жалуется Бабушка Феня, и я формально грожу Митьке пальцем: она будет распускать, а я подтягивать – дудки-с. Мы с Митькой когда-то сочиняли еврейские фамилии:
Дудкис, Нахер… Дмитрий до сих пор любовно вворачивает бабушкины, когда-то раздражавшие меня, словечки: “обернул” вместо “опрокинул”, “прийшел” (оно же “увалился”), “войду” (в смысле “уйду”), “перебавил”, “больненько”, “разу негде” (в смысле “нет места”)… Дочка, кстати, плакала на бабушкиных похоронах, как самая обычная простушка… В нас с нею еще оставалось что-то человеческое. А Бабушка Феня с угасанием жизни становилась лишь теплее: какая ты, “дочушка”, счастливая – “ён в тебе не пьеть”, чуть не ежедневно напоминала она заевшейся
Катьке. В простонародье это главный критерий – наркоман мужик или не наркоман. В смысле алкоголик. Она четверть века помнила каждую книгу, которую я прочел ей во время болезней (она любила толстое и про родню – “Вечный зов”, “Тихий Дон”), сама в свободные минуты, а то и часы, шевеля губами, уходила с головой в могучие тома: когда ее забирали из третьего класса церковно-приходской школы сидеть с новорожденной племянницей, учительница приходила переубеждать отца с матерью четыре раза: девочка, мол, со способностями. В первые годы я даже сам искал случая почитать ей “Теркина” или поставить Мусоргского, истинно счастливый оттого, что возвращаю народу золото, добытое из его же толщи. Но Бабушка Феня заметила, что я при этом начинаю слегка частить и захлебываться, и стала смотреть на меня с ласковым состраданием, будто на Митьку: дурачочек, мол, маленький, помрешь коло тебе. “Заходиться” из-за того, чего нет, она обожала и сама, но – чувствами все-таки посюсторонними: ужасом, негодованием, – а я-то заходился от восхищения, переживания совсем уж бесполезного… Поэтому я начал притворяться как можно более педантичным, читая вслух уже и
Митьке: у меня перехватывало горло от удачных созвучий даже в каком-нибудь дурацком “Мистере Твистере” – гремит океан за высокой кормой… А Евангелие я читал ему почти сердито, чтобы выговорить без слез “любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас” – завет, которому я ни минуты не предполагал следовать.
С каждым годом она все больше умилялась тому, что я постоянно вожусь с детьми, что никогда не ругаюсь, что беспрерывно где-то подрабатываю и каждый грош несу в семью, что постоянно кормлю целую ораву друзей-приятелей, но могу из командировки привезти пустую бутылку из-под молока… Катьку это тоже умиляло, однако она просила Бабушку Феню не рассказывать об этом прежде всего
Леше, ибо он презирал мелочность, а потому жил за наш счет. Я даже гордился широтой своей натуры и умением помнить добро: когда мы еще были студентами, как-то в подпитии Леша сунул нам на эскалаторе пару мятых трех – я испытывал гордое наслаждение, возвращая их сторицей, – пока Бабушка Феня однажды не сказала про меня, жалостно кивая на каждом слове: “А яму хочь на голову клади – усе стерпить”. Зато чем холоднее и отчужденнее я становился, тем больше повышались в цене скудеющие крохи моей некогда необъятной любвеобильности. Когда же я сделался совсем чужим и ледяным, меня начали обожать как мудреца и почти святого. Но мне претило обожание, добытое умением внушать страх.
При этом я сохранял готовность делиться мусором – деньгами: все свои первые заграничные гонорары я вкладывал в землю – хоронил без разбора разветвленную Катькину родню.
Бабушка же Феня к этой поре сделалась подлинно святой: окончательно сложив с себя ответственность за что-либо, она получила возможность уже совсем без помех отдаться созерцанию мировой гармонии, чему-то умиляясь, о чем-то неглубоко и недолго скорбя и купаясь во всеобщей любви и почитании. Размер ее пенсии
– 24 (двадцать четыре) рэ – вызывает стойкое недоверие у всех моих знакомых страдальцев за впервые познавший бедность народ: ведь единственное преступление советской власти заключалось в том, что она помешала им вовремя защитить диссертацию. Но в глазах Бабушки Фени эта удивительная пенсия лишь подчеркивала ее жизненный успех: Катька засыпала ее всякими М-ненужностями, стараясь хоть чем-то усладить свою обиду за долгие годы материной нищеты.
Теперь, когда Бабушка Феня наконец ни в чем не нуждалась, вся до поры до времени затаившаяся родня набивалась к нам в застолье и так пышно ее славословила, что у меня губы сводило от гадливости. Кажется, только сегодня я уяснил, что их восхищение добротой и бескорыстием было так же искренне, как нежелание чем-то им жертвовать. А главное – эта их М-любовь вовсе не была бесплодной: именно она творила праведников. Эта всосавшаяся в лук и сало низкая почва в застольях восхваляла небеса – и тем из века в век воодушевляла дурачков и дурочек, принимавших эти восхваления всерьез. Катька и поныне собирает доступные остатки старой “вуткинской” гвардии (тридцать лет прожившей в
Ленинграде, не заметив в нем ничего, кроме родни, работы и магазинов) на годовщину материной смерти, а недоступным рассылает деньги – одним за то, что любили маму, другим – чтоб прочувствовали, какие они сволочи.