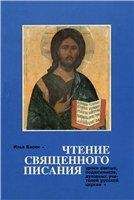Пьер Шоню - Во что я верую
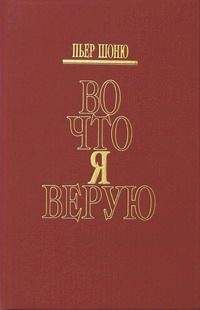
Помощь проекту
Во что я верую читать книгу онлайн
Ведь именно посредством этой стихийно сложившейся памяти, памяти, присущей детству, памяти тонущего и умирающего, той, наличие которой подтверждают д-р Муди и все проводившие научную работу в узкой пограничной области, охватывающей клиническую смерть; ведь именно через её посредство мы вновь можем обрести интуитивное ощущение вечного настоящего, настолько расширившегося, что ему удалось помешать прошлому грызть будущее, и что оно стало одновременно и прошлым, и настоящим. Мне кажется, что не тронутая культурой память, данная Богом каждому человеку, несёт в себе свидетельство о чем-то, чего мы не можем по-настоящему постигнуть ни через чувство, ни через разум, — и что придёт к нам из совершенно иной области; это что-то заставит нас вечно алкать Чего-то другого, Потустороннего, Того, чьи Слова поистине придают смысл. Благодаря сохранившемуся воспоминанию о детской памяти, мы, через посредство естественного откровения об этом всеобщем, неоспоримом стремлении к области, располагающейся по ту сторону временной протяженности, получаем то сбивчивое, в чем-то бескрасочное приближение к тому, что христианское Писание обозначает как Вечную жизнь.
Если стремление к Вечному, ощутимому в настоящем, соответствует естественному праву, то путь, открывающий доступ к вечной жизни, пролегает через Нечто, находящееся в потусторонности. Достигнуть его не даёт возможности никакое усилие. Доступ к нему не открывают никакие заслуги. Да и нужно ли всё это? Одни только взыскующие духа, только утомленные и усталые соглашаются принимать это единственное и ничем не оплаченное. Достаточно принять это подаяние, не противясь тому прикосновению к вашему плечу, которое указует путь к пиршественному покою.
«Господин сказал рабу: пойди… и убеди придти» (Лк 14: 23).
Глава IV Свобода hic et nunc[51] — Прежде и в иной действительности
Я — это свобода вспоминающая и не ведающая усталости в своей воспоминающей деятельности: непрерывность становления не угасила не тронутой культурой памяти, присущей детству.
У меня такое чувство, будто происшедшее со мной произошло в какой-то степени и со всеми людьми. Будучи неповторимым и неподвластным законам взаимозаменяемости, состоящим из только мне присущих молекул тех тридцати миллиардов быстро обновляющихся клеток, что образуют моё тело, я, тем не менее, представляю собой местонахождение памяти, смыкающейся с памятью всего рода человеческого, а, через посредство внутриматочной фазы моего существования (когда три месяца подытоживают шестьсот миллионов лет эволюции[52]), — и с памятью, свойственной жизни. На деле у нас две родословных. Есть история, «до-история», а за ней — скрытое от глаз врастание в глубинную материю сотворения.
История людей, осознавших смерть, — это краткая родословная, длиной в триста миллиардов судеб, начиная с первой сознательно вырытой могилы, означающей, как мы видели, что где-то 40–45 тысяч лет назад завершилось формирование человека, людей, которые, подобно, стало быть, первому из них — Адаму, а также мне и всем людям, стали осознавать себя живущими — и для которых настоящее никогда не является воистину настоящим, поскольку до самого последнего мгновения, за две систолы до остановки сердца, они пытаются провидеть свою судьбу в будущем, изнашивающемся до полной ветхости под воздействием моего прошлого.
Есть и родословная длинная, намного более длинная; не знаю — важнее она или нет. Это — история человека до человека: 40–45 тысяч лет по одну сторону — и 3-10 миллионов лет по другую.
Когда я склоняюсь над зияющей пропастью моего начала и выпускаю на волю не тронутую культурой память, присущую моему детству, то всплывают какие-то частицы всемирной эпопеи, в которой получает свое выражение та не тронутая культурой история, предшествующая всякой истории вообще, когда в Эдемском саду Бог месил глину, из которой сотворена наша плоть.
Именно они, эти незавершенные существа, жившие до «дыхания жизни» и до приобретения способности к жизни за пределами временной протяженности, смогли приобрести опыт существования в сообществе, узнали, что такое крик, знаки, огонь, и начали осваиваться со временем в достаточной мере для того, чтобы дробить кремень; именно они долго склонялись над моей колыбелью, и первые, неловкие движения ребенка, каким мы были, воспроизводят их долгое ученичество. Не тронутая культурой память моего детства связывает меня с вами, о мои отдаленные, уродливые родичи — предки, еще не ставшие людьми, чьи тяжелые, медленно выпрямляющиеся тела содержат обещание стать такими, какими мы являемся ныне.
Эти незавершенные люди, — мне приходится делать над собой усилие, чтобы включить их в свою генеалогию, — эти пра-люди в стадии становления, тайну которых мне выдала земля; эта человеческая глина, которой еще не хватает завершающего прикосновения мастера и жгучего дыхания, — вызывали отвращение у наших дедов и прадедов. Нам теперь нелегко вообразить себе это отвращение, вызванное открытием звена, связывающего нас с жизнью и природой. В западно-латинском христианском сообществе, превратившемся в Европу-завоевательницу, горстка людей в черных рединготах, в жестких пристегивающихся воротничках, в очках научилась разгадывать тайну подписи, которую в песках, в глине, в известняках наших сложенных из осадочных пород бассейнов оставили кости этих далеких, непрезентабельных родичей, всякая общность с которыми представлялась столь позорной. Нашим дедам они внушали прямо-таки невообразимый страх, — едва ли, как мне кажется, христианский, — ибо они лишали нас присвоенного нами господствующего положения. Самым первым откликом стала попытка отрицать очевидное, засунув, подобно страусу, голову в песок, туда, где так тепло. В последние два десятилетия XIX века этот неудовлетворенный ответ на выпад, совершенный Дарвином, еще заполнял страницы ученейшего и почтеннейшего «Обозрения исторических вопросов». Несколько фундаменталистских церквей американского Запада и поныне продолжают вести в этом направлении вызывающую сочувствие борьбу, щедро пуская в ход свои небогатые возможности. Мне вовсе не хочется иронизировать по поводу этой явно неуклюжей попытки выступить в защиту определенной основополагающей части нашего своеобразия — имея в виду ту доподлинную пропасть, то происшедшее в природе преобразование, которое отдаляет вполне сложившегося человека от тех полу-предков из нашей «до-истории». Такое неприятие какой бы то ни было преемственности — а не только здравые и вполне очевидные богословские доводы — послужило источником бьющего мимо цели осуждения, с которым выступил Пьер Тейяр де Шарден[53], что затруднило распространение его взглядов именно тогда, то есть в тот урочный час, когда от этих взглядов могло бы быть еще больше прока, чем вреда. По миновании же этого часа такое неприятие едва ли пригодится на что-нибудь кроме потворства недобросовестным толкованиям, неприемлемым, ввиду нашей приверженности истине и здравому смыслу, равно для меня и для моих друзей.
Каковы были причины этого неприятия? Не стану долго на них задерживаться. В общем, это причины двоякого рода. Одна связана с весьма жалкой экзегетикой книги Бытия, другая же — с определенным влиянием философской мысли. На деле первое место следует отвести экзегетике, но движет ею философия.
Декарт и начало XVII века. Гений Декарта — в упрощении: с одной стороны, он свел внешний мир к пространству с тем, чтобы открыть широкий выход на поле математического анализа; с другой, он обозначил коренное своеобразие мыслящего «я». Философия схоластики, т. е., как вы помните, философия христианских сыновей Аристотеля, схоластов, была не такой уж упрощенной. Она лучше выделяла промежуточные ступени, разделявшие природу и дух. Но, запутавшись в липкой паутине слов, она, обследовав свое поле, оставила его открытым для искушения пантеизмом, которое вновь отчетливо заявило о себе в конце XVI века. Самое устрашающее упрощение картезианства затронуло область антропологии. На место подчиненной троичному ритму библейской антропологии («…и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без порока», — говорит ап. Павел, 1 Фес 5: 23) Декарт подставляет дихотомию: «душа — тело», «cogito — протяженность», не оставляя никакой надежды на мостик, который связал бы cogito и протяженность. В этой манихейской вселенной не остается места для жизни, особенно — для жизни организованной. Отсюда — понятие «животного-машины». Схоластика и хранители устоев увидели эту опасность и осудили Декарта. Но в конце XVII века христианская мысль втихомолку помирилась с Декартом. Если учесть, что схоласты, в ходе старого неразрешимого спора о бессмертии души попались в ловушку, расставленную Помпонацци и Аверроэсом[54] и его сторонниками, то Декарт оказал поддержку, за которую ему следует простить всё остальное. В Средние века христианские философы из числа схоластов совершили два промаха, последствия которых оказались неисчислимыми: христианскую надежду на существование после смерти они ограничили частично неадекватной формулировкой «бессмертия души»; они же не противились утверждению, согласно которому очевидность бессмертия души соответствует доводам разума и принадлежит не самой сути откровения (особого откровения, заповеданного Господом людям), а откровению естественному, постижимому для всех на основе естественного порядка, вытекающего, таким образом, из обычного пользования чувствами и разумом. Для человека, который дал завлечь себя в ловушку, необходимым оказывается признать, что мысль — это нечто единое, полностью отделенное от тела, принадлежащего пространству, так что нестерпимой и порождающей соблазн становится мысль о какой бы то ни было включенности человека в природный континуум. Желание препоручить человеческую душу Богу обрекает нас, таким образом, на то, чтобы сделать душу и природу добычей Дьявола. Всякая включенность человека в долгую память природы и жизни порождает страдание, ибо высвечивается тупик, в который, как в ловушку, вследствие пренебрежения существенной гранью подхода, опирающегося на природу, рассматриваемую как данность, и на откровение, постепенно дала себя завлечь христианская мысль.[XIV]