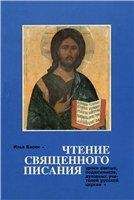Пьер Шоню - Во что я верую
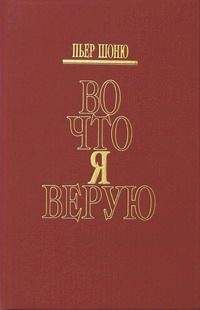
Помощь проекту
Во что я верую читать книгу онлайн
Но необходимо четко уяснить себе, что между христианскими истоками мысли и спиритуалистическим идеализмом, представляющим собой избегающее крайностей крыло идеологии Просвещения, было подписано нечто вроде перемирия. Именно этот с трудом восстановленный порядок нарушают… ископаемые останки людей, которые обнаружили Буше де Перт[55] и аббаты, проводившие раскопки в пещерах Центрального французского массива.
На пути у включения этих нарушителей порядка в безбурную сферу познания встает еще одна трудность: сбивающее с толку креационистское толкование первых восьмидесяти стихов книги Бытия.
Для того чтобы провозглашать превосходство креационистской интерпретации книги Бытия, требуется немалая толика упрямства и предрассудков. Мне кажется, что на примере, скажем, «Комментария» Кальвина я показал[XV], что для этого надо пренебречь частью текста.
Первые стихи «масоретского» извода, который и евреи, и христиане признают за боговдохновенный, — не только предполагают поэтапность сотворения мира, возникновение всего сущего из нулевой точки времени («Веreshith bara Elohim», «В начале сотворил Бог»), но и всеохватность этого процесса, этот дар всего, предполагающий энергичную семикратность[56] провозглашения акта принесения в дар бытия, свободы и судьбы. Но кроме того, — и в такой же степени — начиная с изначального проявления необработанной данности бытия, это повествование называет сотворение мира непрерывным, сопровождающим (символическим образом в течение шести дней из семи). Сотворение требует времени; следовательно, сотворение во времени, скажем мы на более современном языке, — это проявление дополнительной информации в ходе всей временной протяженности мироздания.
Двойственным оказывается повествование и применительно к человеку. Представляется вероятным, что в нем сопрягаются две традиции. Важным является написанное. Но в написанном всё ясно. Первое повествование в окончательной (видимо — самой недавней) редакции недвусмысленно гласит, что о человеке проявлена особая забота. Только о человеке сказано, что он создан по «образу и подобию Своему», «по образу Божьему», и только ему предписано «владычествовать». Но второе повествование возвращается вспять, объясняя и уточняя. Человек, называемый человеком, обладает даром речи, дает имена всякой твари, обладает признаками пола, объединен в очень ярко выраженной взаимосвязанности ish и isha[57], он — это мужчина и женщина; ему дано различать добро и зло; но, прежде чем он обретает дар слова в человеческом состоянии, сказано, что он был сотворен из «праха земного». Таким образом, текст гласит, что еще до завершения разразившейся в саду Эдемском драмы трагического, экзистенциального выбора в связи со стремлением к самопознанию (предложение Змея) — или к смиренному приятию своей судьбы (предложение Бога), повелеванию или подчинению — Бог создавал из праха (непрерывность в природе) и что он «вдунул дыхание жизни, и стал человек душою живою». Но тут речь идет не о той жизни, что у зверей, ибо только у него — у человека — есть одновременно дыхание и жизнь, только он наделен способностью к такой форме жизни, которая никак не отождествляется с computo любой другой живой клетки. Всё это, следовательно, побуждает нас рассматривать медленное формирование человека как длительный формообразующий процесс; и всё подсказывает, что судьбу человека в собственном смысле этого слова надлежит связывать с мгновением и местом внезапного осознания смерти и судьбы; и с исторической точки зрения это происходит во времени — и там, где это взаправду и произошло: 40–50 тысячелетий тому назад, когда появляются, сразу во всей своей полноте, подобно Венере, выходящей из пены морской, вполне оформленные и завершенные погребения, задуманные как таковые.
Наконец, на длительное бездействие экзегетики наслаивается неодарвинизм с его дискуссией о случайности и необходимости[XVI]: «Сочетая данные генетики (Т. Морган[58]) с количественными оценками естественного отбора (Фишер, Сьюэлл, Райт) и проводя параллель между динамикой демографического развития и каким-то этапом эволюции (Фишер, Форд), дарвинисты назвали эту сборную картину синтетической теорией эволюции. Книга, которую посвятил ей Дж. Хаксли[59] (1942 г.), стала «Библией неодарвинизма»[XVII]. Так выражается Пьер Поль Грассе в 1980 году, но обобщающая теория, которую во Франции популяризировал Жак Моно, — это всего лишь последнее по времени воплощение дарвинизма. Однако именно вызванная дарвинизмом полемика сосредоточила на себе в XIX веке все критические усилия христианской мысли. Положения, с которыми выступали Дарвин, а тем более — неодарвинисты, представляют собой возможное объяснение, гипотезу философского порядка: мироздание выстраивается на основе считающегося вечным материала, путем чистой игры произвольной мутации, не прибегая ни к смыслу, ни к осмыслению, ни к замыслу[XVIII]. Дарвина с его хитроумной гипотезой можно еще было как-то извинить; на это уже не могут рассчитывать его позднейшие последователи. В 60-е годы XIX века Дарвин не мог принимать во внимание выводы из только что сформулированного второго принципа термодинамики (1850 год). Ему были неведомы неумолимые последствия квантовой физики, касающиеся quantum-времени[60], — а также то, что скорость света, эта временная протяженность вселенной, не бесконечна. Quantum-время составляет пятнадцать миллиардов лет в рамках почти повсеместно признанной стандартной модели космогенеза. А ведь прямо-таки бросаются в глаза несообразности[XIX] положения о случайности, определяющей становление порядка, этой негэнтропии жизни, при возникновении временной протяженности, и отрезок, измеряемый 3, 3 миллиардами лет, представляет собой бесконечно малую частицу времени в деле становления жизни, а особенно жизни в ее наиболее сложных проявлениях, если ей было нечего ожидать, кроме этого продвижения, осуществлявшегося совершенно вслепую, наощупь. Достаточно припомнить, что при трех миллиардах лет на жизнь, пятнадцати миллиардах лет на космическую временную протяженность (10[10] лет для вселенной), но при 10[30] лет, потребных дня распада протона и нейтрона, что означает 10[20] лет, составляющие временную протяженность вселенной, временная протяженность протона в 10 миллиардов раз превосходит соответствующую величину для вселенной (15 миллиардов лет); становление же человека, с тех пор как он спустился с деревьев в Кении и до Нобелевского лауреата в области физики Стивена Уайнберга, длится не более фотовспышки: 3, 5 миллионов лет, то есть в 10[24] раза меньше, чем временная протяженность протона[XX].
Нет, эволюция не может быть порождением случайности. Ни один биолог теперь не осмелится повторить точку зрения Моно, ставшую лебединой песней полностью ушедшего в прошлое этапа в деле познания; как прекрасно пишет другой Нобелевский лауреат, ПригожинXXI61: «Так была подведена черта под положением дел в биологии в условиях классической физики[62]», — и эта страница была перевернута в конце xix века.
Нет, эволюция не может осуществляться по воле случайности за долю секунды, если считать в космических масштабах. Эволюция — явление дискретное: жизнь выписывает себя и толстыми, и тонкими черточками; ей случается замирать, предаваться вольготному безделью, на что как будто бы намекают, со своей стороны, интонации текста книги Бытия; — замирать, как бы желая придать хотя бы ничтожную степень достоверности смехотворному положению о том, что эволюцией, якобы, движет и в самом деле случайность, характерная для исключительно произвольного хода мутации; но движению жизни случается принимать и скачкообразный характер, как в ходе молниеносного процесса формирования человека (в 10[24] раза короче временной протяженности протона). Значит ли это, что зарождение жизни в качестве направляющего стимула всего движения столь же случайно-произвольно, как того хотел Моно, как хотел бы этого Жакоб[63] и как этого требует неодарвинизм, коротко обозначаемый как обобщающая теория? Послушаем Пьера Поля Грассе:
«Мы поместим бактерии вместе с человекообразными (моими далекими и близкими предками той поры, когда Бог месил глину в саду Эдемском). У человека или у его ближайших предков одно поколение длится 25 лет, у бактерий — полчаса (20 минут при температуре 37 °C)»[XXII]. Иначе говоря, размножение с одной стороны идет в 400 раз быстрее, чем с другой. От древнейших австралопитеков нас отделяют 3, 5 миллиона лет: «В этот период, достаточно долгий, чтобы проявилась длительная эволюция, эволюционные феномены имели место как у бактерий, так и у человекообразных. По данным бактериологов (Станье и его сотрудники, 1966 год), в популяциях бактерий содержится один мутант на 10[9] особей, претерпевающих деление. «Такое соотношение, — замечает Пьер Поль Грассе, — представляется удовлетворительным по сравнению с тем, что наблюдается у клеточных; предполагается, что у ряда естественных популяций бактерий оно является более значительным. Каким бы ни было это соотношение, невероятная многочисленность популяций такова, что огромной оказывается и численность в них мутантов. За 3, 5 миллионов лет она превзошла миллиарды миллиардов. За то же время в малочисленных популяциях человекообразных наберется от силы несколько миллионов мутантов. При темпе в 17520 богатых мутациями поколений в год, распространяющихся в самых различных средах, у бактерий не произошло никаких изменений ни в структуре, ни в образе жизни, с тех пор как их предки перерабатывали в лагунах соли окиси железа». Случайность так же глупа, как и те, кто приписывает ей построение вселенной; в лучшем случае она хорошо сохраняет формы. В течение всего лишь 3, 5 млн. лет, то есть за время в 10[24] раз меньшее, чем долговечность протона, «человекообразные продолжали свою быструю эволюцию, завершили формирование своего мозга, стали вполне двуногими и перешли к прямохождению» — да еще стали пытаться объяснять, «что — к чему». Какими бы многочисленными ни были мутации, они совершенно не в состоянии ввести хоть какой-то элемент эволюции. Не отмечено ни одного случая, когда описки в формуле ADN у отдаленных шизофитов вызвали бы к жизни обитателей Лемурии, крепко сбитых австралопитеков, умерших, не оставив нам потомства, борцов за охрану окружающей среды, авторов стандартной модели, а то и просто водителя автобуса.