Сбоник - Антология восточно–христианской богословской мысли, Том I
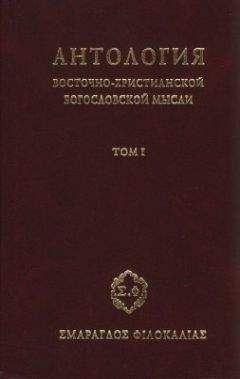
Помощь проекту
Антология восточно–христианской богословской мысли, Том I читать книгу онлайн
Итак, если в самом деле восточно–христианская богословская мысль до такой степени религиозна, то в каком смысле она все же может быть предметом объективного научного и философского анализа, т. е. быть интересна и важна не только верующим, преподаваться в светских вузах, — да и так ли это? Вопрос этот, как известно, всерьез занимает наше общество в последнее время, в первую очередь в связи с проблемой преподавания «Основ православной культуры» (ОПК) в школе и с вопросом о признании ВАКом теологии как научной дисциплины. Мы не станем здесь пускаться в рассуждения на эту тему, отметим лишь, что считаем настоящую «Антологию» вкладом (пусть и скромным) именно в научное изучение мира восточно–христианской богословской мысли в России[12]. По крайней мере мы стремились к максимальной объективности в освещении представляемого материала, анализ которого не искажался бы конфессиональной принадлежностью составителей и авторов статей «Антологии».
Говоря конкретней, речь идет о том, что в научном мире называется «патрологией», которая занимается объективным, научным изучением наследия (и всего контекста жизни и деятельности) и тех, кто в Православной Церкви именуется святыми отцами и учителями, и тех, кто считается Православной Церковью «еретиками». Исходя из этой установки, а также из самого факта, что мир восточно–христианской мысли, начиная с самых ранних отцов и учителей Церкви и вплоть до падения Византии (а на самом деле, в той мере, в какой он жив и до сих пор), поляризовался по линии «православие» — «ереси», мы составили эту «Антологию», учитывая в максимально возможной для нас степени произведения не только отцов и учителей господствующего исповедания Византийской империи, но и тех, с кем они полемизировали и кто верил в другую «ортодоксию», а в глазах первых были «еретиками».
В этом отношении наша «Антология», сколько нам известно, представляет из себя нечто новое. Никогда еще сочинения «православных» и «еретиков», сопровождаемые статьями, вводящими в проблематику их споров, охватывающими почти полтора тысячелетия, не сводились вместе под одной обложкой. Такой охват имеет, разумеется, свои издержки, и не все периоды истории восточно–христианской богословской мысли представлены в «Антологии» одинаково подробно. Больше всего «повезло» IV в., когда закладывались основы православного богословия; менее подробно представлен VI в., особенно богатый на разнообразные ереси, связанные с внутренними расколами в лагере «монофизитов». Еще менее подробно мы смогли представить историю христианской мысли поздней Византии. Хочется выразить надежду, что в будущем, когда условия будут более благоприятными, можно будет подготовить аналогичную «Антологию», в которой бы каждый век истории Византии был представлен отдельным томом, а некоторые, как, например, VI в., — сразу несколькими. Мы прекрасно сознаем, что делаем лишь первый шаг в представлении российскому читателю всего многообразия течений, направлений и имен в восточно–христианской богословской мысли[13].
Разумеется, патрологи на Западе, а отчасти и в России, уже давно занимаются всеми авторами, представленными в настоящей «Антологии», тем не менее нам неизвестны попытки сведения текстов «православных» и «еретиков», как и многовековой полемики между ними, под одну обложку ради того, чтобы представить мир восточно–христианской мысли во всем его многообразии, сложности и, как теперь говорят, «полифонии». В нашем подходе мы исходили именно из принципа «диалогичности», стремясь по возможности дать голос каждой из сторон в имевшем тогда место споре или, по крайней мере, охарактеризовать сам этот спор.
В наш век политкорректности такое сведение вместе «православных» и «еретиков» может показаться неким проектом по стиранию границ между православием и ересью, и у такого опасения есть основания. Дело в том, что за последние примерно сто лет в патрологии и богословии, в первую очередь на Западе, наметились явные тенденции по «реабилитации еретиков» в свете новых данных об их сочинениях. Были найдены или заново прочтены многие тексты, которые прежде не изучались или были неизвестны; в этом контексте переосмыслялись те, зачастую несправедливые, обвинения, которые были возведены, скажем, на Нестория или Севира Антиохийского во время полемики с ними господствующей Церкви. Экуменические процессы, имевшие место в средине XX в. в ситуации, когда христианство во всех своих основных исповеданиях было теснимо тоталитарными антихристианскими режимами и миром потребления, приводили к определенному сближению христиан различных деноминаций. Это, в свою очередь, подталкивало к переосмыслению прошлого, ожесточенной, отнюдь не политкорректной полемики, которая имела место в Византии и на соседних с нею землях. Таким образом, если в дореволюционной России объективному изучению мира восточно–христианской богословской мысли в определенной степени препятствовала идеология триумфалистской православности, насаждавшаяся в государстве, да и просто «духовная цензура», то в наше время мы испытываем скорее давление иного рода, когда определенные тенденции, противоположные прежнему конфессиональному идеологизму, подталкивают исследователей к тому, чтобы свести на нет различия между учениями тех или иных древних авторов, которые почитаются «отцами и учителями» в различных Церквах, а друг друга обвиняли в ереси.
В определенной степени патрологическая наука, стоящая «над схваткой», по крайней мере как всякая наука, претендующая на объективность, стала брать на себя посреднические функции, вольно или невольно примиряя те или иные неустранимые до нашего времени противоречия и расхождения. В самом деле, ведь в принципе не исключено, что политико–идеологическая борьба, да и просто различие культур между Востоком и Западом, Византией и ее окраинами (Сирией, Египтом, Арменией) были действительными причинами церковных расколов — а вовсе не различия в вере. Тем не менее подлинная объективность требует сегодня от ученого отдавать отчет в том, что давление, которое он испытывает со стороны «объединяющегося мира», не менее сильно, чем некогда ученые могли испытывать со стороны конфессионального государства. Безусловно, необходимо исследовать, в какой степени полемика между различными древними христианскими авторами была обусловлена различием в философских предпосылках, культурными различиями и политикоидеологическими факторами, препятствующими их взаимопониманию. Тем не менее полагать, что все догматические споры могут быть сведены к влиянию этих факторов, а серьезного отличия в вере не было, было бы не менее наивно, чем не придавать значения существованию этих факторов.
Иными словами, в нашей «Антологии», сводя вместе «ортодоксию» и «гетеродоксию», мы далеки от идеи искусственного и поверхностного стирания границы между ними. Тем не менее мы считали необходимым подчеркнуть для русского читателя, в какой большой степени то, что он знает в качестве православного учения, сформировалось в неполиткорректном, но весьма плодотворном «диалоге» с тем, что он знает как «ересь». Уже первые авторы, представленные в настоящей «Антологии», — Ириней Лионский и Климент Александрийский — сформулировали многие положения своего учения в полемике с «лжеименными» гностиками, невольно побудившими этих авторов к созданию первых богословских систем в истории церковной традиции[14].
Стремясь подчеркнуть, какое большое значение в истории становления церковного учения имела полемика Климента Александрийского с гностицизмом, мы поместили в «Антологию» статью, написанную на основе книги А. М. Шуфрина[15], в которой уделяется особое внимание тому, как Климент именно в полемике с гностицизмом, многое заимствуя из него и переосмысляя в церковной перспективе, впервые сформулировал мистериальное богословие крещения, как и богословие Фаворского света[16]. При этом Шуфрин подчеркивает и различный характер полемики с гностиками Иринея и Климента, что особенно интересно, т. к. позволяет понять, что и у отцов и учителей Церкви был весьма плодотворный диалог друг с другом, в котором они не обязательно во всем соглашались.
Эта «динамика» и «натяжение» в богословской мысли не только между «православием» и «ересью», но и между самими святыми отцами и церковными писателями неоднократно подчеркивается на протяжении всей «Антологии» (наиболее ярки здесь споры V в. между «александрийцами» и «антиохийцами», но ими дело далеко не исчерпывается).
Важным для нас было рассмотреть и «диалог» православия с той или иной «ересью» на протяжении всей истории их взаимодействия. Не всегда ограниченный объем данной «Антологии» нам это позволял, но в ряде случаев этот замысел удалось осуществить. В первую очередь, это касается учения Оригена — одного из наиболее выдающихся христианских мыслителей всех веков. В «Антологии» представлены тексты не только самого Оригена, достаточно хорошо известного русскому читателю, но и впервые в России публикуется перевод из сохранившегося по–сирийски «Послания к Мелании», сочинения последователя Оригена Евагрия Понтийского, не меньше чем Ориген повлиявшего на формирование не только монашеской письменности, но и (пусть зачастую и по принципу отталкивания) христианской онтологии. Кроме этого в настоящей «Антологии» публикуется перевод с сирийского отрывка из продолжающего традицию Евагрия мистического сочинения «Книги Иерофея»[17]. Касаемся мы и возможного влияния учения Оригена на формирование триадологического учения Церкви в IV в. Тема оригенизма затрагивается также в статьях, посвященных Леонтию Византийскому и Иоанну Филопону, испытавших на себе его влияние. Наконец, представление истории взаимодействия с оригенизмом завершается в данной «Антологии» главой, посвященной полемике Максима Исповедника с оригенизмом и радикальным антиоригенизмом (sic!). Именно Максим Исповедник в VII в. сумел создать настоящую альтернативу оригенизму, т. е. и учению самого Оригена, и наследовавших ему; эта альтернатива, однако, как мы стараемся показать, была выстроена с учетом всего позитивного потенциала оригенизма, которым зачастую пренебрегали борцы с оригенизмом в VI и VII вв., впадая в противоположную крайность и лишая церковное учение того духовного потенциала и той сотериологической силы, которыми хотя и злоупотребляли, но которые использовали последователи Оригена. Антиоригенистическая полемика Максима представлена в «Антологии» переводом знаменитой 7–й трудности из «Трудностей к Иоанну» (Ambigua) Максима, в которой он разбирает место из Григория Богослова, толковавшееся оригенистами как подтверждавшее их учение.

























