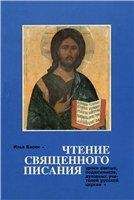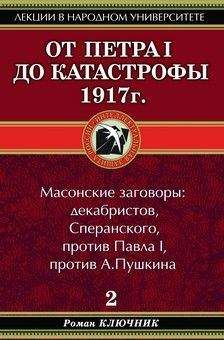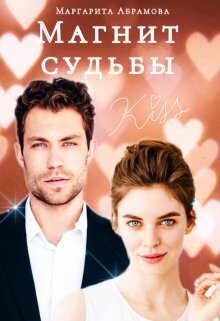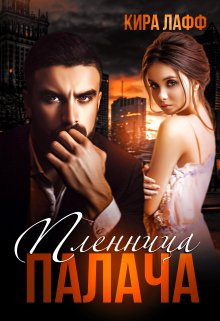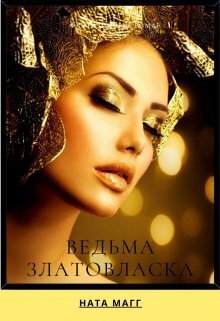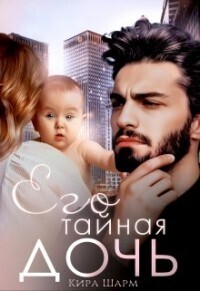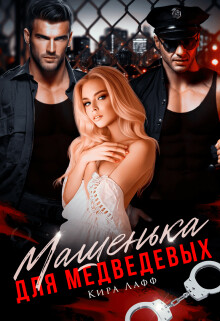Пьер Шоню - Во что я верую
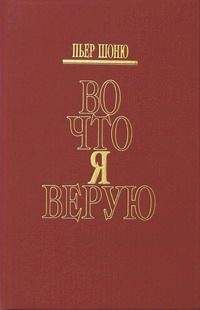
Помощь проекту
Во что я верую читать книгу онлайн
Я есмь, я мыслю и я есмь причина чего-то, я могу делать, действовать, стукаться, делать себе больно, я могу даже заехать по физиономии кулаком тому болвану, который вчера еще упорно отрицал свободу. Артур Кёстлер[13] — ведь есть ещё среди нас несколько приверженцев здравого смысла — со смехом передаёт омоложенный вариант старого «argumentum bacculanum» [ «палочного аргумента» — лат.], привычного в средневековом диспуте: «За почетным столом в одном оксфордском колледже [звучит следующий диалог между] старым профессором-детерминистом строгого толка и юным, пылким австралийским гостем: "Если вы и дальше станете отрицать, что я свободен в своих решениях, я вам морду набью!" — восклицает австралиец. Старик багровеет: "Позор! Это недопустимо!" — "Извините меня, я погорячился". — "Вам следовало бы владеть собой…" — "Спасибо, опыт оказался удачным"»[II].
В самом деле, «недопустимо», «вам следовало бы», «владеть собой» — всё это выражения, предполагающие, что поведение австралийца не определяется его хромосомами и полученным воспитанием и что он свободен в своем выборе между вежливостью и грубостью. И Кёстлер дополняет свою апологию следующим очевидным выводом: «Человек, каковы бы ни были его философские убеждения, не может в повседневной жизни действовать, не опираясь на предполагаемую веру в личную свободу».
Таково, как мне представляется, простое правило истинного здравого смысла. Невозможно класть в основу какой-либо системы мысли утверждение, которому противоречит всё: жизнь, инстинкт, речь, социальное поведение, этика. Раз уж профессиональные философы пренебрегают всем сущностным, поневоле за дело приходится браться любителям. Любитель, по этимологическому смыслу, — это тот, кто любит.
Гениальный любитель, Артур Кёстлер употребляет целую книгу[III] — да ещё с аппетитом, который вызывает у меня радость, — на то, чтобы расправиться с тем, что целые полстолетия выступало в качестве господствующей философии почти всех англосаксонских университетов. В своё время классическая психология уступила место бихевиоризму: сложнейшие формы мысли стали разрезаться на ломтики вроде колбасных и низводиться до поведения подопытной крысы. Артур Кёстлер изящно называет такой подход философским крысоподобничеством. Уотсон[14] и его преемники уподобились в своих деяниях Прокрусту. Но если этот легендарный негодяй довольствовался тем, что растягивал — или укорачивал — тех, кто становился его жертвами, по мерке своего ложа, то бихевиоризм сначала стал отрезать голову пациенту, а затем крошить его на «дольки поведения по схеме стимула и ответа». Мне нравится этот прекрасный гнев нашего прославленного биолога, Пьера Поля ГрассеIV15, набрасывающегося на последнее (или на предпоследнее) воплощение философского крысоподобничества, представляемое Эдуардом Оливером Уилсоном. Мне нравится и здравый смысл моего друга Реми Шовена, нашего выдающегося специалиста в области этологии, который не счёл себя вправе проследовать без всякого перехода от пчёл к человеку; как и нескольким другим прихожанам моего прихода, ему как-то удалось, столкнувшись с вышеописанным убожеством, напомнить во всеуслышание об азах классической психологии, иначе говоря — той, что изучает не крыс, а людей. «Более или менее изложив свои представления о науке, — говорит нам Реми Шовен[V], — я в конце концов выделил несколько принципов, которые едва ли оригинальны». Шовен, разумеется, прав, но оригинальными являются и вторичное открытие, и провозглашение какой-то жизненно важной истины, сущностной в этимологическом смысле слова, если принимать здесь вполне ясное значение связанности с самой сущностью вещей. «Вначале понятие о том, что человек свободен, но не совсем. Точнее говоря, он не будет выступать в поддержку (искренне, от всего сердца, конкретно, делая их частью своей жизни) каких бы то ни было идей — и при этом продолжать жить. Например, он, поистине, не может верить всей душой, что мир и жизнь лишены смысла, — и продолжать жить […]. Он не свободен […] выступать в поддержку некоторых идей и продолжать рассуждать […]. Нельзя допускать возможность быть просто игрушкой некоторых обусловленностей генетики и окружающей среды и продолжать обсуждать и рассуждать…».
Неведомо для себя мы и впрямь представляем собой на деле кучку собравшихся с разных сторон приверженцев одной и той же невидимой церкви, — но всё же ученых и профессионалов, — что-то потихоньку мастерящих каждый в своем углу и однажды осознавших необходимость пройти, при всей своей неотёсанности, тернистым путём простейших философских истин — раз уж нам хотелось продолжать со спокойной душой трудиться своим руками, по-любительски, не желая осрамиться, как и положено тем, кто испытывает необоримую любовь и тягу к сущностной очевидности.
Я — это некая свобода и до какой-то степени — свобода, ответственная за свои мысли и дела. Значит, я — причина чего-то в цепи причин, и в центре той причины, которой я являюсь и не перестаю быть, укореняется в этом сознании память о той временной протяженности, которая движется вперед; одним словом, «я» пускает во мне корни и созидается. Я выстраиваю себя, и моё прошлое, т. е. моя вчерашняя свобода, есть более непреложная данность, единственная непреложная данность той среды, которая окружает меня ныне. Претерпеваемые мной стеснения я создаю себе сам.
Ни одна система цивилизации не была больше, чем наша, основана на очевидности свободы. В нашей семье свободу мы всосали ещё с колыбели. Отцами наших мыслей были марафонские гоплиты, опрокинувшие в море наемников великого Царя, и Сократ был облачен в тяжелые доспехи афинских пехотинцев; ими были бедуины в пустыне, где им слышались голоса, призывавшие их — и в том числе нашего праотца Авраама — устремиться в путь, сняться с насиженных мест. И едва воцарялся добытый оружием мир, как возникала необходимость покинуть Ур Халдейский, Харран, а позднее и сняться с насиженных мест в Египте. У истоков этого странного латинско-христианского сообщества, которое породило Европу, я обнаруживаю сельского труженика, раба, ставшего крестьянином на своём наделе, моего предка, вынужденного по утрам и вечерам определять, обхватив голову руками, свой дневной урок. Уже нет никого, кто мог бы повелевать им, и в этом причина его достоинства и тревоги. За несколько веков нам удалось превратить миллионы людей в хозяев своего промысла, в микропредпринимателей, в работников хозяйства, горестно сознающих убожество своей лачуги и своего клочка земли. И вот почему мы открыли дорогу всем свободам; мы вынудили себя быть главным — если не единственным — лицом, несущим за нас ответственность; мы стали самыми сильными, самыми богатыми, возможно — самыми разумными и наверняка самыми действенными, и вполне естественно, что именно в этом мире, целиком и полностью построенном на бурном высвобождении и распространении свободы, создались эти странные системы, отрицающие нагляднейший психологический опыт человека, знающего, с какой мучительной тревогой ему придется, стоя на распутье, вечно сталкиваться с необходимостью выбора, обрекая себя подчас на полное истощение. Вот и сейчас, занеся перо над бумагой, я знаю, что мне точно так же предстоит совершить выбор слов в попытке выразить возникающую мысль, стараясь убедить вас, мой читатель.
Нет ничего понятнее, чем искушение отрицать очевидность. Можно ли не хотеть отрицать стесняющее меня препятствие? Можно ли быть свободным от искушения отрицать очевидность свободы, которая гнездится во мне и охватывает меня? Не ГУЛАГ — родина философии, отрицающей свободу, а, почти естественно, то общество, для которого использование свободы есть простой хлеб насущный. Отрицание свободы, вполне естественно, возникает из её претворения в жизнь, связанного с такой мучительной тревогой. Отрицать свободу не значит поддаваться искушению, прельщающему раба. Как наркомания — один из способов бежать от ежесекундной обязанности создавать себя и распадаться, так и отрицание свободы творит ещё больше зла, чем обременительное приятие выпавшей на мою долю непрестанной обязанности самосозидания.
В одном из уголков памяти у меня хранится мучительное воспоминание, которое жжет меня ещё и сорок пять лет спустя. Оно — из времен моего учения в третьем классе[16] лицея в Меце. Его источник — неудачный разбор нескольких изречений Ларошфуко[17]. В тексте, право же, не было ничего примечательного, разбор был невыразительный и бесцветный. Мысль Ларошфуко, вся суть которой — злосчастный опыт ущемленного честолюбия, прослеживает самое низменное в жизни общества. С редким талантом выражения и беспощадной жестокостью он разбирает механизм Двора. В искусстве разобрать механизм честолюбия и расчета никому не сравняться с неудачливым политиком. Ни Макиавелли, ни Андре Зигфрид[18] ничего не добились для себя в той области, которую они так хорошо объяснили. Как бы то ни было, мной завладела мысль о полном отсутствии эстетической ценности у наших мыслей и деяний. Дело было в отрицании не свободы, а какой бы то ни было возможности по-настоящему бескорыстных действий, поступков, мыслей и деяний. Я дни и ночи боролся против этой безысходности. Ход моих рассуждений безжалостно приводил к одному и тому же выводу: я действую и мыслю только как эгоист, в полной зависимости от собственного «эго». Нельзя сказать, чтобы во мне утратилась сама основа моих действий; но значимость этих мыслей и действий оказалась запачканной. Совершенно достоверно, что эта мысль загнала меня в страшный тупик, в состояние, которое теперь назвали бы депрессивным. Я оказался, таким образом, запертым в самом себе, пленником собственного «я», своих хитроумных расчетов, застрявшим в моей прежней личности, неспособным на то, чтобы когда-либо вырваться вон из того «я», которое я ненавидел за то, что оно прочно держало меня в своей ловушке, ненавидел, потому что оно не собиралось отпускать меня на волю, надежды на которую мне неоткуда было ждать. Потребовалось по меньшей мере двадцать, а то и двадцать пять лет, пока я уверился в том, что обрел истинный выход из этого лабиринта. Под воздействием злополучного течения моих мыслей моему обращенному на себя взгляду каждодневно открывалось поистине неоспоримое присутствие во мне этого корня моих помыслов и деяний. Усилия, предпринятые мною во имя освобожденния, в конце концов приоткрыли передо мной в качестве какой-то его возможности некую внешнюю причинность, которой предстояло извлечь меня из пут того сомнения, в которое мечтания 14-летнего подростка погрузили самый корень моих помыслов и деяний. Одним словом, это было то самое computo[19] некоего интереса, которому поистине предстояло вырвать меня из этой смерти, из этого замыкания в самом себе.