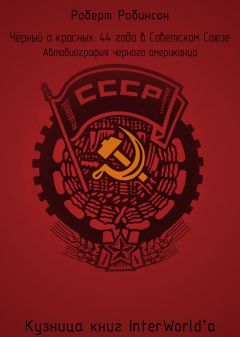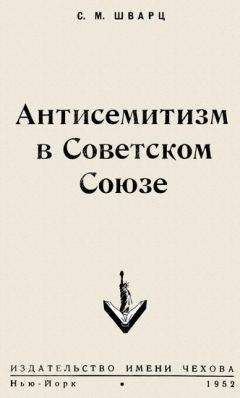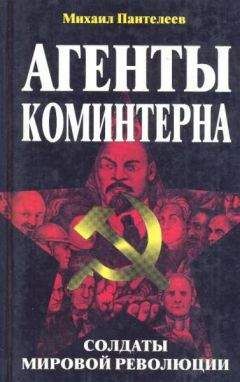Журнал Наш Современник - Журнал Наш Современник №6 (2004)

Помощь проекту
Журнал Наш Современник №6 (2004) читать книгу онлайн
Детство А. М. Опекушина прошло недалеко от родового имения отца великого русского поэта Н. А. Некрасова. Просто какая-то случайность развела дороги двух земляков-волжан. Впрочем, кто может утверждать наверняка, что поэт и скульптор не встречались в Петербурге? Но если они и не встречались в жизни, то их пути должны сойтись сейчас на туристических дорожках. Село Грешнево, где рос поэт, и деревня Свечкино, где родился и окончил свои дни скульптор, находятся в одном Некрасовском районе. Каждое лето мимо этих мест проплывают теплоходы с туристами. А почему мимо? Всё лишь по той же причине: ни в Грешнево, ни в Рыбницах равнодушные “попечители искусств” не позаботились о приведении этих исторических мест в порядок. Нельзя больше мириться с душевной вялостью работников Ярославского художественного музея и областного отдела культуры. На могиле Александра Михайловича Опекушина должен стоять памятник, а в заброшенной сельской церкви — лучшего помещения в Рыбницах просто не найти — следует создать мемориальный музей скульптора, в котором могут быть представлены не только его работы, но и работы нескольких поколений его земляков — мастеров художественной лепки, украшавших в XVIII и XIX веках всемирно известные архитектурные ансамбли Петербурга, а также здания в Москве и Ярославле.
Обо всем этом говорилось в моей корреспонденции, опубликованной в “Известиях” в 1967 году. Прошло двенадцать лет, и я вновь приехал в Рыбницы. Николая Владимировича Опекушина я уже не застал в живых, его вдова Анна Павловна переехала в город. Пошел на кладбище. За церковью Всемилостивого Спаса, хлопающей на сквозняке ветхой дверью, пошел по тропинке к знакомым ориентирам — двум валунам, поставленным друг на друга. Еще издали заметил новый памятник. Читаю на весьма скромной плите: “Академик Александр Михайлович Опекушин”. Рядом под металлической пирамидкой могила его внука, директора рыбницкой школы Николая Владимировича.
Подошла ветхая старушка, неподалеку убиравшая с могилы увядшие цветы, назвалась Софьей Сергеевной Шутовой. Спросила: не родственник ли? Нет, не родственник, отвечаю, просто приехал поклониться могиле знаменитого скульптора.
— Надо же, — удивилась старушка. — Значит, и в Москве его знают. Александра Михайловича смутно помню, а его брата Константина Михайловича как сейчас вижу. Церковным старостой был, да еще всякие ремесла затевал, школу ремесленную создал для здешних детишек. Говорят, шестьсот целковых серебром еще при царе пожертвовал на это дело, именем своего брата назвал эту школу. А еще нашу церкву Спаса Милостивого содержал в порядке. До чего красива была, когда с того берега или с водицы смотришь! Такой, видно, нигде нету. Пускай закрыли — говорят, мало верующих осталось, но зачем же кощунствовать, всяким проходимцам отдавать на разорение...
Это что-то новое. В тот давний мой приезд, помню, внутреннее убранство церкви было просто роскошным для сельского храма: цветные витражи, хорошей работы иконостас, с узором изразцовые печи, свисающие из-под купола массивные бронзовые паникадила, под ногами также узорные чугунные плиты... А что сейчас?
За Софьей Сергеевной переступил порог церкви. Перешагиваем через битый кирпич, вывороченные чугунные плиты пола. В разбитые витражи с посвистом врывается ветер. Боже ты мой, будто Батый прошел! На месте иконостаса — пустые подрамники. Паникадила с отломанными подсвечниками. Чьей-то разбойничьей рукой разбиты изразцы печей — не иначе ломом или киркой.
— Кто же это так?
— А кто их знает, — пожимает плечами Софья Сергеевна. — Кто близко живет, говорят, что будто ночью приехали автомашины, вышли какие-то люди, а наутро — вот так... Каждое лето теперь какие-то городские приезжают, иконы выспрашивают, Священное Писание, прялку иль еще чего там. Мода, говорят, теперь пошла такая: мы, деревенские, телевизор в красный угол, а городские еще — икону.
Подавленный увиденным, возвращаюсь к могилам Опекушиных. Опираюсь рукой о валуны, и вдруг пальцы прощупывают отверстия в камне — одно, второе, третье, четвертое... Да, никак, постамент, а под ним...
— Как же, как же, — говорит Софья Сергеевна, — ихний папаша здесь лежит, Михаил Евдокимович, а сверху голова евонная была из меди. Мария Федоровна, жена Константина Михайловича, продала голову-то какому-то, дай Бог память, Грабельникову или Поскребникову...
— Скребкову?!
— Ему — это точно. Марья Федоровна уже тогда не в себе была, головой, значит, слабая. Вскорости и померла от этого. А он, значит, медную голову в мешок и — в лодку. А потом постоял, подумал, скоро возвернулся и давай отдирать с каменьев медные украшения, табличку с евонным именем-фамилией. И поплыл к ярославскому берегу...
Объяснил Софье Сергеевне, что бюст М. Е. Опекушина не исчез бесследно, хранится в Ярославском музее.
Она возрадовалась:
— Надо же! Это хорошо — на людях... А с церквой как же?
Сказал, что поеду выяснять в сельсовет.
Председатель исполкома Боровского сельсовета В. В. Нагорнов спокойно выслушал мой взволнованный рассказ и бесстрастно сказал:
— Знаю. Сторож по штату не положен. Много раз вешали замки — сбивают. А чтобы создать там музей — где деньги взять? Да это и не по нашей части.
Вот так. Возвращаясь в Москву, я перебирал в памяти всякие детали своих впечатлений. И тут память связала фамилию старушки — Шутова — с чем-то полузабытым... Постой-постой, а не дочь ли она того самого Шутова, который должен был встретить посылку Александра Михайловича Опекушина с бюстом отца — Михаила Евдокимовича? Наверняка если не дочка, то какая-то родственница. Выходит, живая память о скульпторе еще не оборвалась, хотя прошло после его смерти много десятилетий. Тонкая теперь эта нить, и скоро и ее не станет. Наша деловая неповоротливость, пресловутая российская расхлябанность укорачивают, прерывают историческую память. Мы бездумно и даже охотно разбрасываем камни, не думая о том, как трудно будет их собирать, как трудно будет склеивать черепки времени.
Пушкинская площадь
Разгар “перестройки”. Сцена у памятника Пушкину в Москве. К девушке интеллигентного вида подошел рыхлый молодой мужчина в кооперативной “варенке” и мешковатых штанах, спросил:
— Вы не скажете, кому этот памятник?
— Как — кому? Пушкину...
— Это который написал “Муму”?
— Ну, знаете, — вспыхнула девушка. — Пушкин и “Муму” — это нелепо...
— А кто же написал “Муму”?
— Каждый школьник знает — Тургенев...
— А-а... Выходит, Тургенев хуже Пушкина?
— Кому как... Но Пушкин никогда бы “Муму” не написал!!
Я отошел подальше, чтобы не слышать и не видеть этого кооперативного дебила. Если даже предположить, что он таким образом шутил или “клеил” девушку, то и в этом случае уровень его шуток выдавал в нем низкопробного пошляка, жертву всеобщего обязательного среднего образования. Как заметил один известный писатель: “Я не хочу, чтобы меня заставляли смеяться столь простым способом”.
“Здравствуй, племя младое, незнакомое!”
Эх, Александр Сергеевич, если б вы знали, к кому вы обращаетесь...
У того же самого памятника я как-то провел экспресс-опрос среди молодых людей: “Кто автор этого памятника?” Ни один из 18—20 опрошенных не дал правильного ответа. Называли Кербеля, Вучетича, Андреева, Меркурова. Двое были близки к верному ответу, назвав Аникушина. Да нет же, нет, мои молодые соотечественники, дорогие москвичи и гости столицы. Фамилия скульптора созвучна фамилии великого поэта и содержит все шесть заветных букв из восьми. ОПЕКУШИН. Автор знаменитого памятника, ставшего одним из символов Москвы.
Пришло время в полный голос говорить о нашем запоздалом долге перед памятью о великом русском скульпторе Александре Михайловиче Опекушине.
Примечания
1. В данном, конечно, любительском поэтическом опыте усматривается явная параллель с сюжетом знаменитого стихотворения “Муза” Н. А. Некрасова — великого земляка А. М. Опекушина.
2. История русского искусства (под редакцией И. Э. Грабаря). Том V, с. 368.
3. Архив Александра Н. Бенуа. Письма Антокольского к Н. Н. Ге. // История русского искусства. Том V, с. 370.
4. Письма Антокольского в собрании С. С. Боткина. // История русского искусства.Том V, с. 374.
5. Архив Александра Н. Бенуа. Письма Антокольского к Н. Н. Ге. // История русского искусства.Том V, с. 374.
6. “Художественная газета”. 1837 г.
7. Здесь речь идет о канонизированном Русской Православной Церковью (1970 г.) в лики святых Равноапостольном Святителе Николае (1836—1912), архиепископе Японии (с 1906 года). В общей росписи епархий и викариатов Российской Православной Церкви отсутствует Ревельский викариат, который недолго и совершенно номинально существовал в рамках Рижско-Митавской епархии, к которой относились Ревель (Таллин) и вся Эстляндская губерния. Это уясняется у С. В. Булгакова в “Настольной книге священно-церковнослужителя” (М., 1993, с. 1394—1418). Там же к началу 80-х годов XIX века указан единственный епископ с именем Николай — хиротонисанный в 1880 году архимандрит Николай (Касаткин Иван Дмитриевич), глава Русской Духовной миссии в Японии с 1860 года. Другие епископы с таким именем в архиерейском звании упоминаются только после 1884 года. Учреждение Японской епархии в 1880 году было по политическим соображениям невозможно, и специально для главы Русской духовной миссии временно был номинально учрежден Ревельский викариат. Из только что увидевшей свет книги Н. А. Сухановой “Цветущая ветка сакуры” можно узнать: “В 1880 году в Санкт-Петербурге, в Троицком соборе Александро-Невской Лавры, он [Архимандрит Николай] был рукоположен во Епископа Ревельского, Викария Рижской епархии. Естественно, это было формально, Епископ возвращался в Японию. Митрополит Новгородский и Санкт-Петербургский Исидор, совершавший хиротонию, сказал при вручении жезла отцу Николаю: “До конца жизни тебе служить взятому на себя делу, и не допусти, чтобы другой обладал твоим венцом!” Слова эти произвели на нового Епископа сильное впечатление, он неоднократно вспоминал их потом... Со 2 апреля по 8 июня Владыка Николай был в Москве, где был 6 июня на дне открытия памятника Пушкину. За месяц до этого на Пушкинский праздник приехал Достоевский. Интересуясь распространением Православия среди других народов, он не упустил возможности встретиться с Владыкой Николаем. В письме к своей жене Анне Григорьевне от 2/3 июня он рассказывал: “Вчера утром заезжал к Архиерею Викарию Алексею и к Николаю (Японскому). Очень приятно было с ними познакомиться... Оба по душе со мной говорили... Сочинения мои читали. Ценят, стало быть, кто стоит за Бога” (Н а к а м у р а К. Достоевский и Николай Японский // Вопросы литературы. 1990, № 11—12, с. 353). Сохранились и впечатления самого Владыки Николая, по которым мы можем судить о его трезвости и наблюдательности: “1 июня 1880 года... У Преосвященного Алексея встретил знаменитого писателя Федора Михайловича Достоевского. Уверения его о нигилистах, что скоро совсем переродятся в религиозных людей и теперь-де “Из пределов экономических вышли на нравственную почву”; о Японии — “Это желтое племя — нет ли особенностей при принятии Христианства?” Лицо — резкое, типичное; глаза горят; хрипота в голосе и кашель (кажется, чахоточный)” (Праведное житие и апостольские труды Святителя Николая, Архиепископа Японского, по его собственноручным записям. СПб., 1996, т. 1, с. 308, 309). (С у х а н о в а Н. А. Цветущая ветка сакуры. История Православной Церкви в Японии. М, 2003, с. 23—25). — Ред.