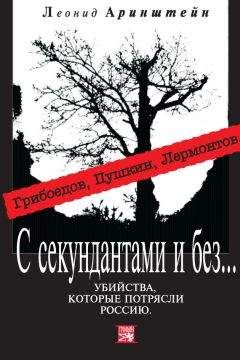С. Фомичев - Пушкинская перспектива
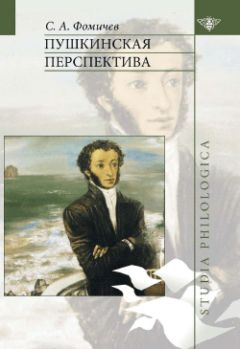
Помощь проекту
Пушкинская перспектива читать книгу онлайн
Повесть о Петре и Февронии / Подгот. текста и исслед. Р. П. Дмитриевой. Л., 1979. С. 5.
136
Достаточно вспомнить аналогичную легенду о Филимоне и Бавкиде.
137
Скрипель М. О. «Повесть о Петре и Февронии» в ее отношении к русской сказке // Тр. отд. древнерусской литературы. Т. 7. М.; Л., 1949. С. 159. В. О. Ключевский предполагал, что прототипом героя повести послужил муромский князь Давид (ум. 1228), см.: Ключевский В. Древнерусские жития святых как исторический источник. М., 1871. С. 287.
138
См.: Памятники старинной русской литературы, издаваемые гр. Григорием Кушелевым-Безбородко. Вып.1. СПб., 1860. С. 29–52.
139
См., например, четвертую рукописную редакцию повести, опубликованную В. Ф. Ржигой, который отметил, что «в процессе усиления демократических элементов в литературе последней трети XVIII в. определенную роль играет и традиция, восходящая к древней русской литературе, отдельные произведения которой получали в 80-х и начале 90-х годов новое, более демократическое переосмысление» (Ржига В. Ф. «Повесть о Петре и Февронии» в русской литературе конца XVIII в. // Тр. отд. древнерусской литературы. Т. 23. Л., 1968. С. 429–430).
140
Ср. героиню повести А. И. Куприна «Олеся» (1898), которая воспринимается крестьянами как ведьма. «Народные предания ставят ведуна и ведьму, – замечает А. Н. Афанасьев, – в весьма близкое и несомненное родство с теми мифическими существами, которыми народная фантазия издревле населяла воздушные области. (…) Ведун и ведьма (ведунья, вещица) – от корня вед, вещ – означают вещих людей, наделенных духом предвидения и пророчества, поэтическим даром и искусством исцелять болезни. (…) Чары – это те суеверные, таинственные обряды, какие совершаются, с одной стороны, для отклонения различных напастей, для изгнания нечистой силы, врачевания болезней, а с другой – для того, чтобы наслать на своих врагов всевозможные беды…» (Афанасьев А. Н. Древо жизни. М., 1983. С. 376–377).
141
«Дикий заяц очень часто спутник и помощник ведьм» (Купер Дж. Енциклопедя натрадиционните символи. София, 1993. С. 45).
142
Такой представлена героиня в опере Н. А. Римского-Корсакова «Сказание о великом граде Китеже и деве Февронии» (либретто В. И. Вельского). «Маленькая подробность повести: „…сидяше бо едина девица, точаше постав: перед нею же скачет заец“ – расцвела в творческом воображении поэта и композитора в прекрасную картину: к Февронии слетаются птицы, медведь лежит у ее ног, лось подставляет ей свою ветвистую голову» (Гозенпуд А. Н. А. Римский-Корсаков. Темы и идеи его оперного творчества. М., 1957. С. 145). О символике образа зайца в фольклорной традиции см.: ЧековаИ. Змей, князь и мудрая дева-целительница в житийной «Повести о Петре и Февронии Муромских» // Мир житий. Сб. материалов конф. (Москва, 3–5 октября 2001 г.). М., 2002. С. 189.
143
См.: Дмитриева Р. П. С. 214.
144
«…иже прегордаго змия поправшаго»: Дмитриева Р. П. С. 100.
145
Афанасьев А. Н. Древо жизни. С. 253–254.
146
Алексеев М. П. Пушкин. Сравнительно-исторические исследования. Л., 1984. С. 336.
147
Лермонтов М. Ю. Собр. соч. Т. 2. М.; Л., 1962. С. 505, 540–541.
148
Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. Л.,1962. С. 221. Связь Петра и змея, возможно, в повести предопределена соседством Петрова дня и дня Исаакия (30 мая), в который, по народному поверью, совершается змеиный праздник: змеи собираются на змеиную свадьбу.
149
См. во «Влюбленном Роланде»:
Сказал Агрикан и посмотрел ему в лицо:
«Если ты христианин, ты – Роланд (…)
Будем защищать своего бога каждый с мечом в руке».
Больше он ничего не сказал: вытащил Транкеру
И на Роланда отважно ринулся
Тогда начался жестокий бой…
«Сюжет этого знаменитого отрывка, – замечает комментатор, – не был придуман Боярдо, который, очевидно, вдохновился анонимной поэмой „Испания в стихах“».
Транкера (название меча) – от фр. trancher – отсекать (Russo Luigi. I clasici italiano. Vol. I / Пер. H. Л. Дмитриевой. Ferenze, 1938. P. 771, 775. Ср.: Итальянская поэзия в русских переводах XIII–XVIII вв. М., 1992. С. 611–616.
150
Итальянская параллель Агриканова меча обнаружена Е. А Костюхиным: КостюхинЕ. А. Древняя Русь в рыцарском ореоле // Приключения славянских рыцарей. Из русской беллетристики XVIII века. М., 1988. С. 18. Не упоминается ли в предании о Петре и Февронии Агрикан по созвучию с Артамоном? На Артамона (12 сентября), по народному поверью, змеи прячутся на зиму.
151
Пропп В. Я. Русская сказка. Л., 1984. С. 239.
152
См.: Дмитриева Р. П. «Повесть о Петре и Февронии» в пересказе А. М. Ремизова // Тр. отд. древнерусской литературы. Т. 26. Л., 1971.
153
Грачева А. М. Алексей Ремизов и древнерусская литература. СПб., 2000. С. 282–283.
154
Там же. С. 176. А. М. Грачева справедливо замечает: «Финал ремизовской повести – полет в гробу мертвой монахини Ефросинии-Февронии восходит к гоголевской повести („Вий“), прочитанной и интерпретированной через концепцию Розанова. Подобно паночке, Феврония летит, чтобы соединиться с избранником. Но высшее соединение возлюбленных происходит после физической смерти обоих» (с. 287). Однако это вовсе не отменяет колдовского, инфернального изображения Ремизовым данного полета.
155
См.: Дмитриева Р. П. Т. 26. С. 171.
156
Еремина В. И. Ритуал и фольклор. Л., 1991. С. 166.
157
111 опер. СПб., 1998. С. 523.
158
См. об отражении в литературных произведениях этого мотива: Еремина В. И. Ритуал и фольклор. С.176–186. «Повесть о Петре и Февронии» и ее интерпретации здесь, однако, не упоминаются.
159
Булгаков М. Мастер и Маргарита. М., 1989. С. 377. Отметим также бесовское начало героини романа.
160
Галич А. Генеральная репетиция. М., 1991. С. 114.
161
Бунин И. А. Собр. соч. Т. 5. М., 1958. С. 467.
162
Долгополов Л. К. На рубеже эпох. О русской литературе конца XIX-начала XX века. Л., 1977. С. 347–348.
163
А. С. Грибоедов в воспоминаниях современников. М., 1929. С. 31.
164
В некоторых рассказах книги «Темные аллеи» символическое значение приобретают «змеиные мотивы» в качестве предвестья трагической обреченности пробуждающейся у героев любви: таковы уж, притаившийся в лодке («Руся»), и нетопырь, залетевший в комнату героя («Натали»).
165
Бунин И. А. Собр. соч. Т. 5. С. 467.
166
Долгополов Л. К. С. 346.
167
См. об этом в книге Л. К. Долгополова. С. 340.
168
Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. М., 1979. С. 66.
169
Михайлов А. Д. История легенды о Тристане и Изольде // Легенда о Тристане и Изольде. М., 1976. С. 626.
170
Мильдон В. И. «Сказка – ложь…» (вечно женственное на русской земле)//Вопросы философии. 2001. № 5. С. 139. См. также: Трубецкой Е. Н. «Иное царство» и его искатели в русской народной сказке// ТрубецкойЕ. Н. Избранное. М., 1995. С. 386–430. Мотив умной жены (Василисы Микуловны), спасающей своего мужа, был развит также в новгородской по происхождению былине «Ставр Горинович». «Былина ценна тем, – замечает 3. И. Власова, – что, созданная на заре русской государственности, она, по существу, утверждала право женщины (конечно, достойной прежде всего) на равенство с мужчиной» (Власова 3. И. Скоморохи и фольклор. СПб., 2001. С. 208).
171
Федотов Г. П. Святые Древней Руси// Федотов Г. П. Собр. соч. Т. 8. М., 2000. С. 192.
172
Мотив смерти счастливых супругов в один день отражен в легенде о Филимоне и Бавкиде. В одном же гробу в Византии были похоронены равноапостольные Константин и Елена (сын с матерью).
173
Эта проблема неоднократно обсуждалась в русской богословской литературе, вплоть до современных авторов: Борисов Александр, свящ. Побелевшие нивы. Размышления о Русской Православной Церкви. М., 1994. С. 108–113; Михаил (Мудьюгин), архиепископ. Русская православная церковность. Вторая половина XX века. М., 1995. С. 62–69. «Вся русская духовность, – констатирует иеромонах Иоанн, – носит богородичный характер; культ Божией Матери имеет в ней настолько центральное значение, что, глядя со стороны, русское христианство можно принять за религию не Христа, а Марии. Во всяком случае, рассматривая жития русских святых и разыскивая в них их высшие моменты, те, которые говорят о их мистическом опыте соединения с Богом, мы придем к установлению весьма изумительных обстоятельств: прежде всего, в житиях содержится очень немного указаний о таких переживаниях, когда они есть, в центре мистического опыта оказывается обычно не Христос, а Его Матерь. Эта „богородичная мистика“ особенно ярко проявляется в жизни великих русских национальных святых: Преподобного Сергия Радонежского и Преподобного Серафима Саровского» (Иоанн (Кологривов), шромонах. Очерки по истории русской святости. Брюссель, 1961. С. 150).