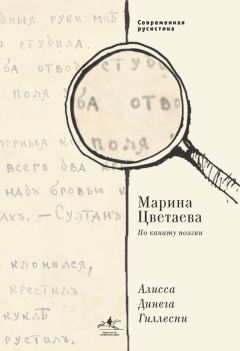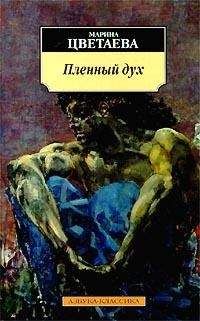Марина Цветаева. По канату поэзии - Гиллеспи Алиса Динега
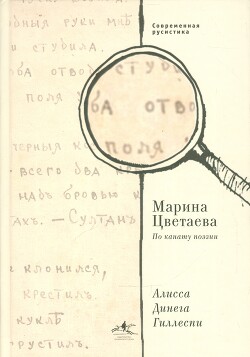
Помощь проекту
Марина Цветаева. По канату поэзии читать книгу онлайн
Об античных смыслах этой символики см.: Dykman A. Poetical Poppies: Some Thoughts on Classical Elements in the Poetry of Marina Tsvetaeva // Literary Tradition and Practice in Russian Culture: Papers from an International Conference on the Occasion of the Seventieth Birthday of Yuri Mikhailovich Lotman / Ed. V. Polukhina, J. Andrew, and R. Reid. Amsterdam: Rodopi, 1993. P. 163–176.
Вернуться
354
Frye N. Anatomy of Criticism. New York: Atheneum, 1969. P. 155–156.
Вернуться
355
Или как метафорически формулирует Цветаева в эссе «Искусство при свете совести»: «Значит, художник – земля, рождающая, и рождающая все. Во славу Божью? А пауки? (есть и в произведениях искусства)» (5: 346). Для Цветаевой искусство не исключает темных сторон существования, но, напротив, часто порождается размышлениями о них, если не прямым стремлением к ним.
Вернуться
356
Другие стихотворения этого периода, где особенно ясно видна сгущающаяся мрачность поэтики Цветаевой, это «Разговор с гением» (2: 267–268) и «Наяда» (2: 270–272). В «Разговоре с гением» муза Цветаевой заставляет ее петь, несмотря на боль, даже когда ей уже нечего сказать и единственный звук, на который она способна – это иссушенный хрип. В «Наяде», вследствие своей постоянной поэтической устремленности к невозможному, Цветаева оказывается глубоко и непоправимо отчужденной от собственной жизни, музы, от себя самой. О литературных подтекстах этого стихотворения см.: Makin M. Marina Tsvetaeva’s «Naiada» // Essays in Poetics: The Journal of the British Neo-Formalist Circle. 1986, September. Vol. 11. № 2. P. 1–17. См. также о «Разговоре с гением» и «Наяде»: Dinega A. Exorcising the Beloved: Problems of Gender and Selfhood in Marina Tsvetaeva’s Myths of Poetic Genius. Ph. D. Diss., University of Wisconsin-Madison, 1998. P. 315–323. Интересно, что в подтексте «Разговора с гением» обыгрывается державинский «Снигирь», как и в стихотворении-манифесте Цветаевой «Барабан», с которого много лет назад начался ее поэтический бунт.
Вернуться
357
«Слава» для Цветаевой – безоговорочно негативная категория, репрезентирующая кнут общественного мнения, сгибаться под которым недостойно поэта. Ср. стихотворения «Тише, хвала!..» (2: 262) и «Слава падает так, как слива…» (2: 260), а также эссе «Поэт о критике», где Цветаева в характерной для нее иконоборческой манере вступает в старинный спор о том, что ценнее для поэта, деньги или слава: «Славу, у поэта, я допускаю как рекламу – в денежных целях» (5: 287).
Вернуться
358
Лора Викс отмечает, что, начиная со стихотворений книги «После России», «висок» иногда замещает в цветаевском словаре знаков «лоб» как место «поэтической отметины» (Weeks L. The Search for the Self: The Poetic Persona of Marina Cvetaeva. Ph. D. Diss., Stanford University, 1985. P. 47). Пример такого рода можно найти, в частности, в стихотворении «В седину – висок…» (2: 257), где седеющие виски женщины-поэта знаменуют ее переход в иную жизнь.
Вернуться
359
Лили Фейлер, например, предполагает, что роман с Парнок был, «возможно, самым страстным и сексуально наиболее удовлетворительным за всю жизнь Цветаевой» (Feiler L. Marina Tsvetaeva: The Double Beat. P. 66); сама Цветаева интуитивно чувствовала, что ее страсть к Родзевичу впервые дает ей надежду в полной мере воплотиться: «Вы говорите: женщина. Да, есть во мне и это. Мало – слабо – налетами – отражением – отображением. <…> Может быть <…> я действительно сделаюсь человеком, довоплощусь» (6: 616). Виктория Швейцер считает, что большая часть, если не все, любовные романы Цветаевой основывались на чем-то ином, нежели сексуальное желание: «Она искала не приключений, а душ – Душу – родную душу. <…> Это ощущалось как жажда или голод, кидало от восторга к разочарованию, от одного увлечения к другому. <…> Это не был просто секс, даже может быть совсем не секс или секс в каком-то ином качестве, простым смертным незнакомом. <…> Может быть, в поэте существует определенный душевный вампиризм, примитивно принимаемый за формы секса?» (Швейцер В. Быт и бытие Марины Цветаевой. С. 260–261).
Вернуться
360
Ср. письма Цветаевой к М. Волошину от 18 апреля 1911 г. (6: 47), к Пастернаку от 10 июля 1926 г. (6: 264) и к Рильке от 2 августа 1926 г. (Briefwechsel: 232; Письма 1926 года: 191–192).
Вернуться
361
Даже в самых неблагоприятных обстоятельствах Цветаева соблюдала жесткое расписание, каждое утро по несколько часов проводя за письменным столом. Ариадна Эфрон дает в воспоминаниях яркое описание того, как работала Цветаева: «Налив себе кружечку кипящего черного кофе, ставила ее на письменный стол, к которому каждый день своей жизни шла, как рабочий к станку – с тем же чувством ответственности, неизбежности, невозможности иначе. Все, что в данный час на этом столе оказывалось лишним, отодвигала в стороны, освобождая, уже машинальным движением, место для тетради и для локтей. Лбом упиралась в ладонь, пальцы запускала в волосы, сосредотачивалась мгновенно» (Эфрон А. О Марине Цветаевой. С. 37). В эссе «Мать и музыка» Цветаева противопоставляет освобождающие, синкопированные ритмы поэзии тираническому стуку метронома; однако в последние годы сама поэзия стала представляться ей механическим принуждением, подобным тому, какое она с ужасом вспоминает с детства: «А вдруг завод – никогда не выйдет, а вдруг я с табурета – никогда не встану, никогда не выйду из-под тик – так, тик – так… <…> Метроном был – гроб, и жила в нем – смерть» (5: 21). Одна из последних, лаконичных записей в дневнике Цветаевой (от января 1941 года) такова: «Писать каждый день. Да. Я это делаю всю (сознательную) жизнь» (4: 615).
Вернуться
362
Интересно сравнить эту формулу с экономикой мужского вдохновения, как она описана в стихотворении Пушкина «Поэт»: «Пока не требует поэта <…> / Быть может, всех ничтожней он». Проблема Цветаевой, в отличие от пушкинского поэта, не в том, чтобы достичь состояния вдохновения, – она, собственно, страдает от того, что вынуждена жить в непрекращающемся состоянии вдохновения, которое не имеет общепризнанного, легитимного выхода. Для нее трудность в том, чтобы обрести и концептуализировать мифопоэтическое основание своего необлегчаемого поэтического желания.
Вернуться
363
Цитата из стихотворения Маяковского «Во весь голос» (Маяковский В. Собр. соч. Т. 6. С. 175–180).
Вернуться
364
Пример, обратный этой формуле, – Н. В. Гоголь, который сжигает рукопись второго тома своей поэмы «Мертвые души», этим актом, в сущности, предавая огню самого себя. Цветаева пишет: «Гоголь, сжигая дело своих рук, и свою славу сжег. <…> Эти полчаса Гоголя у камина больше сделали для добра и против искусства, чем вся долголетняя проповедь Толстого» (5: 355).
Вернуться
365
Светлана Бойм убедительно доказывает, что в отношении женских стереотипов Цветаева часто занимает двойственную позицию, делая серьезные поэтические утверждения и при этом обыгрывая «женскую нехватку»: «Амбивалентное отношение Цветаевой к культурному мифу женственности проявляет себя в ряде самооборонительных действий: с одной стороны, женщина-повествователь часто старается дистанцироваться от образа традиционной героини <…>, с другой стороны, ее привлекает эстетически неприличный, “переслащенный” и откровенно романтический “женский” дискурс, который она пытается, несмотря на все запреты критики, пересоздать» (Boym S. Death in Quotation Marks. P. 203). См. также основательную статью: Gove A. The Feminine Stereotype and Beyond: Role Conflict and Resolution in the Poetics of Marina Tsvetaeva // Slavic Review. 1977 (June). Vol. 36. № 2. P. 231–255.
Вернуться
366
В разлуке с мужем, воевавшим в Гражданскую войну на стороне Белой армии, Цветаева находилась более четырех лет. В этот период между ними не было никакой связи, и Цветаева не знала, жив он или умер, пока в июле 1921 года не получила весть о нем через Илью Эренбурга.