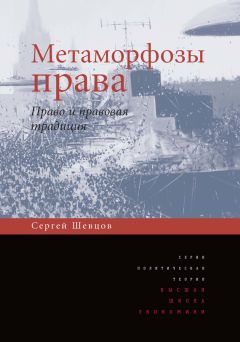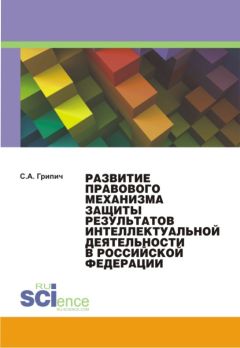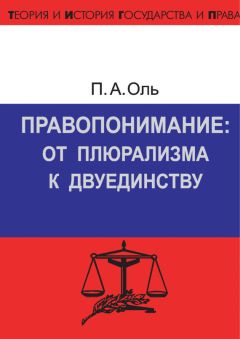Игорь Царьков - Развитие правопонимания в европейской традиции права
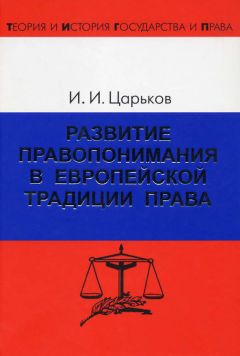
Помощь проекту
Развитие правопонимания в европейской традиции права читать книгу онлайн
Гуманизм как идеологическое течение эпохи Возрождения привнес в научное знание «элемент», который впоследствии привел к «коперниканской революции» во всех отраслях знания. Изменения коснулись как естественных, так и социальных наук и прежде всего науки о праве и государстве, что, в свою очередь, создало предпосылки для разработки и практической реализации проектов «нового правопорядка» в XVII–XVIII вв.
К этому времени гуманистический опыт глубоко пустил корни, и его идеология свободного духа уже не могла быть перечеркнута усилиями ни церкви, ни королей.
Начиная с Петрарки, гуманизм все увереннее заявлял свой новый взгляд на человека, проходя путь через творчество таких титанов Возрождения, как Коллучо Салютати, Леонардо Бруни, Лоренцо Валлой, Марсилио Фичино и др., а в 1486 г. молодой итальянский мыслитель Пико дела Мирандола выразил все предшествующие антропологические идеи и свои собственные в знаменитых «900 тезисах», стремясь отстоять их правоту в диспуте перед всей папской курией. Католическая церковь вначале отвергла только 13 тезисов, признав остальные соответствующими христианской вере. Но уже через год «Тезисы» целиком были подвергнуты аресту. То, что не устраивало апологетов христианского учения, выражалось в лейтмотиве этих тезисов – мотиве «защиты достоинства человека»: человек если и был создан Богом, то создан так и таким, что в сфере общественных отношений он имеет право опираться на свои собственные основания. В своей речи о достоинстве человека Пико восклицает: «О, сколь высоко, сколь достойно удивления счастье, дарованное человеку (Богом. – И. Ц.). Человек счастливее не только животных, но и ангелов, ибо и последние созданы такими, какими суждено им пребывать вовеки. И только человек – хозяин самого себя»[126], он сам делает себя таким, каков он есть.
«Искусство быть свободным» – вот главное в гуманистическом опыте. «Опыт свободы», исключая беспредел человека – всевозможность и вседозволенность, устанавливал новые границы возможного и невозможного, дозволенного и недозволенного. Гуманистическая идеология, поставившая в центр мироздания человека, даже не отрицала существования Бога, гуманизм просто ограничил его юрисдикцию. Бог, создав мир и человека, уже не вмешивается в его действия. В сфере своих человеческих отношений он предоставлен самому себе. Поэтому каким быть человеку, зависит от него самого: «Предается он чувственности – он дичает и становится как животное. Следует он своему разуму – он вырастает в небесное существо»[127]. Божественное же остается как нравственный критерий, как возможный масштаб критической оценки происходящего (чтобы зло не рядилось в маску добра), как инстанция, куда душа человека может обратиться с мольбой, если обращаться уже не к кому.
Поэтому гуманизм не отбросил достижения средневековых христианских мыслителей в сфере правового знания. Несмотря на то, что изменение идеологии от «человека, сотворенного Богом», к «творящему самого себя» привело к существенному пересмотру знания о праве, средневековая правовая традиция не исчезла без следа, она не была преодолена как ненужная и утратившая научную ценность. Тот идеал права, который выработали реформаторы в период «правового ренессанса» XI–XIII вв., с его достаточно строгими критериями, сохранил свою силу и в последующие времена. Во-первых, это касалось взгляда на правовую систему – corpus juris – систему, которая обладает основаниями для собственного развития, имеет потенцию к совершенствованию. Правовые нормы должны изменяться не актом отмены одних и введения в действие других, а должны совершенствоваться, не изменяя остова corpus juris. Этот правовой остов строился посредством формулирования правовых принципов, которые в силу их универсальности никогда не могут быть отменены. Во-вторых, правовая система должна представлять собрание норм, соединенных и различенных не только по отраслевому принципу, но и по иерархическому. Есть не только нормы, регулирующие различные правоотношения, но и нормы более высокого порядка, обладающие высшей юридической силой (божественное и естественное право), и низшего порядка (нормы позитивного права). Первые служат критерием для вторых. В-третьих, законотворческий процесс – это регулярный процесс. Законы должны создаваться не от случая к случаю, в силу изменившихся обстоятельств, а регулярно, так как это сознательный законотворческий процесс.
Все эти три фактора правовой системы не утратили своего значения не только в период позднего Возрождения, но и в эпоху Просвещения. Чем были не удовлетворены просветители, так это методом, который использовался в средние века в «строительстве» corpus juris. Схоластический метод использовался средневековыми учеными в любой отрасли знания, и если еще в 1625 г. Г. Гроций писал, что у схоластов есть многое, что заслуживает одобрения, но есть и другое, к чему следует относиться со снисхождением[128], то уже к концу XVII в. схоластику полностью отвергли как возможный метод научного исследования. Главным недостатком схоластики, по мнению просветителей, было ее отношение к общим понятиям как реально существующим субстанциям (натурализм) и, кроме того, некритическое заимствование аргументов у авторитетных мыслителей прошлого[129]. То, что схоласты не самостоятельно разрабатывали систему аргументов, доказывая то или иное положение, а заимствовали их уже готовые у других мыслителей, стало расцениваться как ненаучный способ получения знания. Необходимо не нагромождать силлогизмы, а искать истину. В «Правилах для руководства ума» французский философ Р. Декарт писал: «Мы, однако, не осуждаем тот способ философствования, который дотоле изобрели другие, и орудия правдоподобных силлогизмов, чрезвычайно пригодные для школьных баталий, ибо они упражняют умы юношей и развивают их посредством некоего состязания… но поскольку мы уже освободились от клятвы, привязывавшей нас к словам учителя… то мы всерьез хотим сами установить себе правила, с помощью которых мы поднялись бы на вершину человеческого познания»[130]. Здесь «опыт свободы» говорит, что истина не передается от учителя к ученику, истина приобретается самим индивидом, его интеллектуальным усилием к познанию и выработкой им истинного метода познания (руководство ума). Знание не предшествует жизни – жизнь предшествует знанию.
Именно критическое отношение к схоластике ознаменовало переход к новому идеалу научного знания. Промежуток времени, когда происходило охлаждение, растянулся более чем на 150 лет – с конца XV до второй половины XVII в. За это время в истории Европы произошли события, потребовавшие пересмотра всего корпуса социального знания. Эти события были связаны с «великими географическими открытиями». Какова была мотивация европейцев в открытии новых земель, в данном случае не столь важно, важно, к какому результату эти открытия привели. А результат был поистине грандиозным, его можно назвать «новым откровением», но откровением не Бога, а человека. Мир, который открывался взорам путешественников, поражал их воображение и не укладывался в привычные схемы европейской общественной действительности. Педро Мартир, священник и член Совета по делам Индии при испанском короле Карле V, писал своему другу-гуманисту: «… мы направили свои помыслы на созерцание деяний Божьих и сбора сведений о делах, столь неслыханных и необычных»[131]. Удивляться было чему. Неслыханным было то, что туземцы не имели представления ни о королевской власти, ни о законах (божественных, естественных и позитивных) и тем более не имели представления о единобожии. Все сообщения о жизни туземцев были настолько необычные, что тема «образа дикаря» надолго приковала к себе внимание гуманистов[132].
Информации о жизни других обществ на Европейский континент поступало очень много, и она была слишком разнообразной, даже противоречивой. В первую очередь сообщалось то, что непосредственно бросалось в глаза европейцам. «Я… смотрю с восхищением, – пишет Бартоломе де Лас Касас, – на простых, скромных, кротких людей, у которых отсутствует не только высокомерие, тщеславие, но и алчность. Они довольствуются тем малым, что дает им сегодняшний день, нисколько не заботясь о завтрашнем, не думают и не тоскуют о том, чего они не могут получить в этой жизни»[133]. Но от глаз первопроходцев не скрывалось и другое: жестокость, хитрость, лесть, вороватость тех же самых туземцев. Создавалось впечатление, что в душе дикарей сочетались несочетаемые с точки зрения европейцев качества: вороватость с бескорыстием, добродушие с жестокостью, откровенность с хитростью, преданность с вероломством. Такие противоположные суждения уже невозможно было примирить схоластическим методом, поскольку сочетались не нормативные суждения (суждения о должном), а суждения о сущем. Поэтому принималась либо идея утопистов позднего Возрождения о «благородном дикаре», живущем в согласии с собой, с другими и с природой, либо идея о «безбожном варваре», распространенная среди духовенства. Позднее Д. Кук, описывая образ «дикаря», отмечал, что «приходилось тщательно следить за туземцами, умевшими воровать поистине с изумительной ловкостью»[134], и описывал огромное количество случаев, связанных с жертвоприношениями и людоедством. Вряд ли возможно было примирить схоластическим методом «благородного дикаря» и «дикаря-варвара». Поэтому напрашивался иной вывод – у каждого народа, компактно проживающего на одной территории, свой собственный социальный опыт: свои боги, свои обычаи и свои ценности. Причем навязать туземцам европейскую истину оказалось настолько же сложно, насколько сложно было бороться с ересью. Этим гуманистическая идеология неожиданно получила эмпирическое подтверждение своих идей. Человек действительно творец самого себя, коль каждый народ живет своими собственными ценностями. Человек действительно по преимуществу искусственное существо, коль социальные институты создаются им самим.