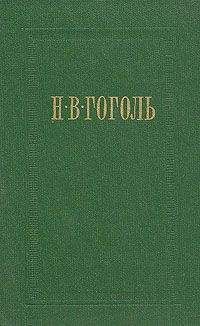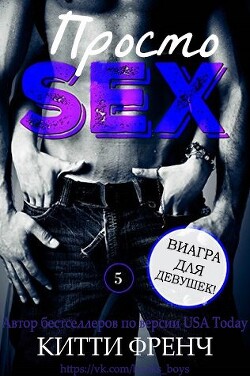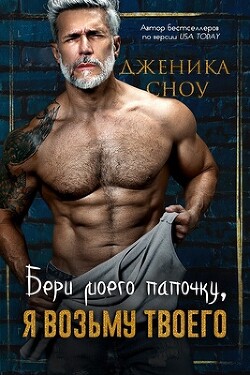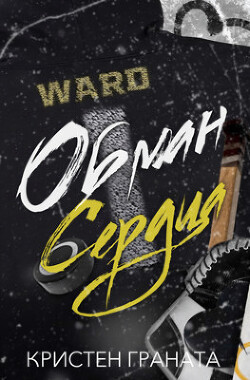Андрей Синявский - Прогулки с Пушкиным
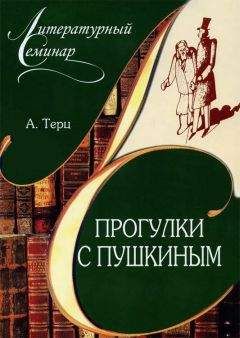
Помощь проекту
Прогулки с Пушкиным читать книгу онлайн
Спиной к человеку, всем существом в стройной гармонии сфер, попирающий бездны и самое безумие разъярённых стихий подчинивший грозному взмаху простёртой в неколебимую высь, дирижирующей судьбою руки, — таков Аполлон, губитель и исцелитель, хозяин дружественных инструментов — лука и лиры, дальновержец, исполненный нечеловеческой гордости и неземного величия. Те, кому посчастливилось увидеть Аполлона в лицо, находили его точно таким, каким он показан у Пушкина.
«…Я сделал попытку выйти за пределы человеческого и возвыситься до бога Аполлона.
Я узрел его, гневного, в золотистой бронзе, увлечённого битвой и мыслью. Вот она, моя первая попытка подняться над людьми…» (Из письма Антуана Бурделя Сюаресу, 31 декабря 1926 г.).
К сожалению, сейчас у меня нет возможности поточнее узнать, кого изображала вторая статуя в Царском Селе, повергавшая в трепет юного Пушкина. Не исключено, то был Вакх-Дионис: древние, помнится, представляли его женоподобным. Но как бы там ни было, это уже не столь существенно для понимания «Медного Всадника», текст которого принадлежит Аполлону, тогда как Дионис не имеет здесь самостоятельного лица и представлен со своими стихиями оборотной стороной того же Аполлона, солнценосного бога Поэзии, как её, Поэзии, так сказать, творческая подкладка. Истукан и безумие — мы уже видели, что в этих обличьях выступает обычно Поэт у Пушкина в своём чистом и высшем значении, в независимости ото всего. Он либо стоит столбом, ни на кого не обращая внимания, либо носится, как сумасшедший, «и звуков и смятенья полн». В «Медном Всаднике» даны оба варианта: истукан-памятник Петра, построившего Город, и безумие-наводнение, грозящее их затопить, а в сущности ими же вызванное, санкционированное и с ними соединённое.
Каким-то тёмным чутьём Евгений понимает, что Пётр повинен в буре, обрушившейся на Петербург, что в этих периодических приливах стихии видны рука и замысел основателя города. В самом деле, волны и Всадник действуют заодно; он их предводитель, полководец, пославший на приступ своих же твердынь. Не забудем о военной и мореплавательской страсти Петра, участвующей в сцене бедствия, мрачной по смыслу, радостной по интонации, написанной с таким же подъёмом, как «Тесним мы шведов рать за ратью», и озарённой слышимым в этом вое и вихре шествием вдохновения. Атака духа, ринувшегося в пробитое Петром окно — с видом на море, заставляет вспомнить, что это в обычае Диониса — развязывать страсти, отворять стихии и повергать вакханта в экстаз, который и есть творчество в изначальном его, хаотическом качестве, покуда исступление не перейдёт в своё светлое производное, безумство не обратится в гармонию. О таком переходе древние говорили: «Дионис бежал к Музам», подозревая, должно быть, союз противоположных по свойствам, но равных в прорицательстве демонов — Диониса и Аполлона, как бы конкурирующих друг с другом в таинствах искусства. Помните, у Пушкина говорится о вдохновении: «Плывёт. Куда ж нам плыть?..» Вот и поплыли:
Погода пуще свирепела,
Нева вздувалась и ревела,
Котлом клокоча и клубясь,
И вдруг, как зверь остервенясь,
На город кинулась…
Но этот взрыв ничем не ограниченной, неукротимой, первобытной энергии всё-таки удержан на самом пределе рукою того же Петра. Как бы ни клокотали волны, вышина-то неколебима, и в ней пребывает Идол, всюду скачущий, не пошевеливший и пальцем, с огненной кровью в бронзовом теле.
Обратите внимание: Пётр едет верхом на Неве, никуда не уезжая; у наводнения огненная природа Петра и его коня; а конь — вся Россия, сама Поэзия, рванувшаяся в исступлении к небу, да так и застывшая в слитном смерче воды, огня и металла.
Но, торжеством победы полны.
Ещё кипели злобно волны,
Как бы под ними тлел огонь,
Ещё их пена покрывала,
И тяжело Нева дышала,
Как с битвы прибежавший конь.
……………………………………………………
Ужасен он в окрестной мгле!
Какая дума на челе!
Какая сила в нём сокрыта!
А в сем коне какой огонь!
Куда ты скачешь, гордый конь,
И где опустишь ты копыта?
О мощный властелин судьбы!
Не так ли ты над самой бездной
На высоте, уздой железной
Россию поднял на дыбы?
В этом — на одних восклицаниях — взлетающем апофеозе маловеры улавливают ноту неудовольствия. Чуть ли не проклятие и предрекание гибели слишком высоко вознёсшемуся ездоку. Как будто ужасен («Ужасен он в окрестной мгле!») не предполагает, в самом себе не заключает уже — прекрасен! Как если бы бездна под копытами коня могла озадачить того, кто сам в дионисийском восторге возглашал: «Есть упоение в бою, и бездны мрачной на краю…». Или вздыбленная Россия — та, о которой сказано, что всё в этой России и в её языке надлежит творить фантазёру, подобному Петру, — или эта взнузданная у края пропасти буря, сомкнувшая воедино бездну дикости и чудо гармонии, — может пошатнуться и рухнуть, а не останется навсегда памятником самовластной Поэзии?!
«Дионис бежал к Музам»… Бешеная оргия творчества разрешается в гармоническом ладе и строе творенья.
Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий, стройный вид…
И на каждом шагу твёрдость и стройность. «Тяжелозвонкое скаканье». В «стройно зыблемом строю» проходят войска. «Громады стройные теснятся». Тяжесть камня, ковкость металла. «Твоей твердыни дым и гром». Пушкинский Петербург предстаёт порождением стихии, укрощённой и перелитой в башни, дворцы, ограды. Насколько яростна буря, настолько же крепок гранит, и чем сильнее бьётся Нева об эту крепость, «плеская шумною волной в края своей ограды стройной», тем, кажется, сообщает ей бóльшую прочность, и вместе с тем живит и питает её своей страстью, не давая охладеть, наращивая громады зданий и памятников. В этом смысле пролог держит всё произведение в стройности, в узде; оно не размывается с началом наводнения, но возникает из волн и ветра, воодушевивших эту постройку и застывших в кристаллы поэмы-города.
В итоге Петербург-стихия и Петербург-столица, поэзия Пушкина в двух её аспектах — дикий гений и чудный город — явлены в едином лике, как нечто слитное, целостное. «Медный Всадник». В названии звучит согласие противоборствующих начал — статики и динамики, стройности и буйства, Аполлона и Диониса, от вражды перешедших к сотрудничеству, к примирению. «Медный Всадник» — уже не заглавие, не герой и не тема пушкинской повести, а её исчерпывающее определение, покрывающее всё, что в ней имеется и творится, включая жанр, и слог, и стих, которым она написана. Если эту поэму обвести карандашом, мы получим Медного Всадника. Он из неё вырастает, над нею господствует, с нею в конце концов совпадает. Потому-то он по многу раз в ней появляется в одном и том же виде и скачет по всему тексту, ни на миг не исчезая из глаз, увеличиваясь в размерах, и от него нельзя ни уйти, ни укрыться, ибо в нём и этот город, и наводнение, и поэт, что пишет о нём, сидя в своей светёлке, взирая на прозрачные улицы, и Евгений, жалко передразнивающий поэта, Всадника и наводнение, оглушённый «шумом внутренней тревоги», пока наконец своим «ужо!» не произнесёт себе приговор и не погибнет под копытами Идола, что никого и не думал давить и даже не отпускал поводья взлетевшему над пропастью зверю, а просто вобрал в себя всё и вытеснил собой человека, заполучив поэму в своё распоряжение. Евгений изгоняется из неё по мере того, как она всё более полно принимает очертания скачущего Памятника. Как инородное поэзии тело, он выброшен ею и похоронен кое-как в последних строках — за чертою города.
Спрашивается: сочувствует ли Пушкин Евгению? Ещё бы! Если он себя, свою человеческую мечту и мелкость переехал и обезвредил в Евгении! Впрочем, к чужим несчастьям он относился ещё сочувственнее. Но, сострадая Евгению, был беспощаден. Пушкин вообще был жесток к человеку, когда дело касалось интересов поэзии. Любя Байрона, он писал Вяземскому (13–14 июня 1824 г.): «Тебе грустно по Байроне, а я так рад его смерти, как высокому предмету для поэзии. Гений Байрона бледнел с его молодостию. В своих трагедиях, не выключая и Каина, он уже не тот пламенный демон, который создал Гяура и Чильд-Гарольда. Первые две песни Дон-Жуана выше следующих».
Словом, сделал своё дело и не задерживайся, не порть впечатление. Так же — и к себе.
Пушкин не отмечал в себе человеческое и не подавлял его, он предоставлял ему волю, простор и весьма благосклонно смотрел на все его проделки и ухищрения, отдаваясь им с открытой душой. Но строго держал дистанцию между собою и человеком и, прощая тому многое, может быть слишком многое в житейском плане, был суров и взыскателен, когда впускал его в свои поэтические апартаменты, и беспрестанно осаживал, как лакея, — знай своё место. Он не давал ему возноситься и упиваться собой и для того писал о себе нелицеприятно, с сочувствием и презрением наблюдая, как мечется этот Евгений. Дистанция, неуступчивая позиция Пушкина позволяла ему следить за ним с зоркостью, невозможной, немыслимой для автора, отождествляющего себя с человеком, трезво взвешивая все pro и contra и создавая в общем нелестный и неутешительный портрет.