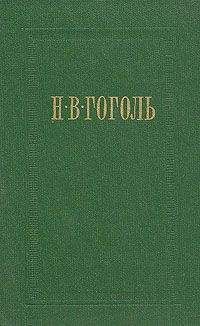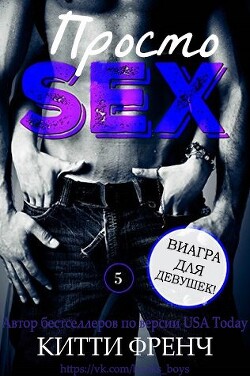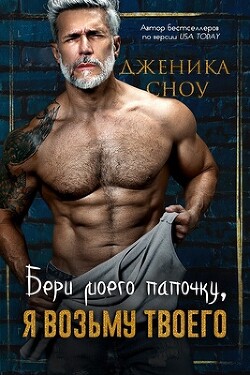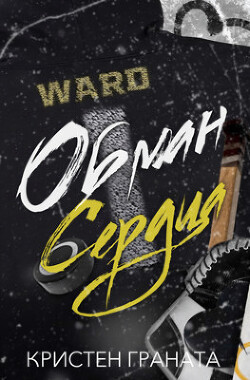Андрей Синявский - Прогулки с Пушкиным
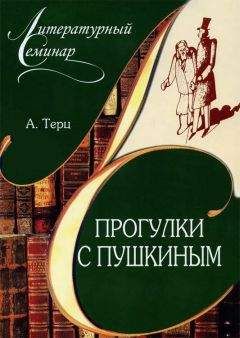
Помощь проекту
Прогулки с Пушкиным читать книгу онлайн
И Пушкину и Пугачёву ссылка на петровского крестника внутренне послужила трамплином, для того чтобы прыгнуть в Петры. Отличность же в себе от других произвесть Пушкину всегда улыбалось (общая черта поэтов и самозванцев). Но более, чем во внешних приметах, она, эта отличность, давалась и подтверждалась в судьбе: человеку вдруг начинало подозрительно везти. У Пушкина мы помним, как это случилось, — так же у Пугачёва.
«Что ж принадлежит до его предприятиев завладеть всем, — в том и сам удивляется, что был сперва очень щастлив, а особливо при начале, как он показался у Яицкаго городка, было только согласников у него сто человек, а не схватили. Почему и уповает, что сие попущение Божеское к нещастию России» (Рапорт П. С. Потёмкину гвардии капитан-порутчика С. Маврина о поимке Пугачёва, 15 сентября 1774 г.).
Такое везение, принятое за потакание, за согласие в последней инстанции, и толкает самозванца на решительные шаги, тем же в какой-то мере оправданные в глазах Пушкина. Лжедимитрий ему предпочтительнее и в некотором роде законнее Бориса. Тот захватил чужой престол хитростью и насилием и прилагает горы стараний, чтобы на нём удержаться, тогда как Самозванцу царство само упало к ногам, как созревшее яблоко. «Всё за меня: и люди и судьба».
Поэтому в несколько бледном характере Лжедимитрия (он слишком красивая, кратковременная игрушка в руках Фортуны) всё же вырисовывается петровско-пушкинский психологический тип: пылкое, великодушное сердце, доверчивость к переменам судьбы, способность нерасчётливо идти навстречу первому впечатлению. Подобно Моцарту в эпизоде с трактирным скрипачом, он готов отвлечься от царства ради издыхающей лошади; подобно Петру, добром отзывается о побившем его противнике и после военного разгрома засыпает младенческим сном. Поистине Лжедимитрий у Пушкина прирождённый царевич: на нём видна печать чудесного благоволения.
Приятный сон, царевич!
Разбитый в прах, спасался побегом,
Беспечен он, как глупое дитя;
Хранит его, конечно, провиденье;
И мы, друзья, не станем унывать.
Царственными повадками блещет и пушкинский Пугачёв. Ведь чем его покорил проезжий барчук — тем единственно, что по-царски его пожаловал тулупчиком с собственного плеча. Не тулупчик дорог — плечо. Это в натуре самого Пугачёва: «Казнить так казнить, миловать так миловать!» — и он платит Гринёву сторицей, среди прочих милостей не забыв наградить ответным широким жестом — овчинной шубой с своего плеча.
Но самозванцы у Пушкина не только цари, они — артисты, и в этом повороте ему особенно дóроги. Димитрий показан даже покровителем «парнасских цветов», причем его меценатство — «Я верую в пророчества пиитов» — отдаёт высокой, родственной заинтересованностью. Ибо самозванцы тоже творят обман по наитию и вдохновению, вынашивают и осуществляют свою человеческую участь как художественное произведение. «Монашеской неволею скучая, под клобуком, свой замысел отважный обдумал я, готовил миру чудо…»
А чудо его вышло из Чудова монастыря. Колыбелью Григорию-Димитрию послужила келья Пимена. При несходстве возрастов и характеров они собратья по ремеслу, и Григорий продолжает повесть с той страницы, где оборвал её Пимен, — он принимает эстафету от старца: «Тебе свой труд передаю». Самозванщина берёт начало в поэзии и развивается по её законам. Хотя её сказанья пишутся кровью, облекаются в форму исторических происшествий, их авторы строят сюжет как истинные художники. «— Слушай, — сказал Пугачёв с каким-то диким вдохновением» (следует притча его жизни и творчества).
Оттого, между прочим, им не так уж свойственно упирать на буквальную подлинность своего царского происхождения. Поразительнее, занимательнее в художественном отношении фабула самозванца. Димитрий уверяет Марину, что отдал ей руку и сердце не царевичем, но беглым монахом: ему милее высокой должности лицо и престиж артиста — как придумано, сыграно, какая в этом сила искусства!
Этот острый сюжет в сочетании с задачей новоявленного царя — добыть державу и трон эффектами в первую голову своей заразительной личности (его успех в немалой мере обязан артистическому чутью и таланту) — превращает судьбу самозванца в поле театрального зрелища. Все на него смотрят, сличают, гадают; толпа и участник и зритель исторической драмы, аплодирующий одному актёру.
Уже первый выход Пугачёва на публику (не в царских регалиях, а в первозданном виде бродяги-провожатого) обставлен как необыкновенное зрелище. Всё внимание устремлено на внешний облик героя, слезающего с полатей, которому уготовано центральное место в событиях, ещё не начавшихся, но уже замешанных на средствах по преимуществу зрелищного воздействия. «Наружность его показалась мне замечательна: он был лет сорока, росту среднего, худощав и широкоплеч». Фраза звучит нелепо — ничего замечательного в обещанной наружности нет. Да и Гринёв ещё не ведает, с кем имеет дело, чтобы пялить глаза на встречного мужика. Не ведает, а пялит: сей мужик — спектакль, притом поставленный так, что нелепая фраза окажется прозорливой. Пугачёв сыграет не того царя, на чей титул он зарится, но приснившегося Гринёву чернобородого мужика, царя-самозванца, царя-Емельяна. В этом вновь обнаруживается поэтическая натура пушкинской инсценировки. У него самозванщина живёт, как искусство, — не чужим отражением, но своим умом и огнём. Она своевольна, самодержавна. Пугачёв нигде не переигрывает (что, казалось бы, неизбежно в такого направления пьесе), но выявляет своё подлинное лицо, свою царственную природу, отчего его довольно простоватая внешность приводит всех в изумление.
«Необыкновенная картина мне представилась: за столом, накрытым скатертью и уставленным штофами и стаканами, Пугачёв и человек десять казацких старшин сидели, в шапках и цветных рубашках, разгорячённые вином, с красными рожами и блистающими глазами». Опять необыкновенная! Что он пьяных мужиков не видел, что ли? Нет, необыкновенно то, как они, с каким артистизмом, на свой пьяный, на свой разбойничий лад, играют в цари и поэты. Они свою судьбу каторжников и висельников разыгрывают по-царски. «Их грозные лица, стройные голоса, унылое выражение, которое придавали они словам и без того выразительным, — всё потрясало меня каким-то пиитическим ужасом».
Вальтер-Скоттовские формы домашнего вживания в мировую историю, где великие люди показаны как частные лица (Екатерина Вторая в ночном чепце и душегрейке), перемежаются в «Капитанской дочке» мизансценами и декорациями, выполненными в характере площадной, народной драмы. Опыт «Бориса Годунова», вместе с преемственностью по династической линии Гришки Отрепьева — Емельки Пугачёва, здесь учтён и развит писателем, утверждавшим зрелищный дух народного театра и нашедшим ему применение в условиях самозванного действа. «Драма родилась на площади и составляла увеселение народное. Народ, как дети, требует занимательности, действия. Драма представляет ему необыкновенное, странное происшествие. Народ требует сильных ощущений, для него и казни — зрелище. Смех, жалость и ужас суть три струны нашего воображения, потрясаемые драматическим волшебством» («О народной драме и драме „Марфа Посадница“»).
Представление подобного рода разыграно в «Полтаве», где зрелище казни без стеснения ударяет по вышеназванным струнам, со сценой-плахой и гиперболическим палачом на главных ролях, с лубочной эстетикой крови и топора, доставляющей глубокий катарсис многотысячному зрителю. Нам остаётся удивляться, как органично воспринял Пушкин эти вкусы балагана, чуждые его среде и эпохе.
…Средь поля роковой помост.
На нём гуляет, веселится
Палач и алчно жертвы ждёт:
То в руки белые берёт,
Играючи, топор тяжёлый,
То шутит с чернию весёлой…
…………………………………………………
……………………………………… И вот
Идут они, взошли. На плаху,
Крестясь, ложится Кочубей.
Как будто в гробе, тьмы людей
Молчат. Топор блеснул с размаху,
И отскочила голова.
Всё поле охнуло. Другая
Катится вслед за ней, мигая.
Зарделась кровию трава —
И, сердцем радуясь во злобе,
Палач за чуб поймал их обе
И напряжённою рукой
Потряс их обе над толпой.
Пугачёвщина как явление народного театра, с подмостков шагнувшего в степь и вовлёкшего целые губернии в карнавал пожаров и казней, снабдила режиссёрский замысел Пушкина прекрасным материалом. Дворец-изба, оклеенный золотой бумагой, но сохранивший всю первобытную обстановку — с шестком, ухватом, рукомойником на верёвочке; «енерал» Белобородов, в армяке, с голубой лентой через плечо; рваные ноздри второго «енерала» — Хлопуши; виселица в качестве декоративного фона (на неё надо — не надо натыкается Гринёв, педалируя стереотипный эффект ужасного зрелища: «Виселица с своими жертвами страшно чернела», «Месяц и звезды ярко сияли, освещая площадь и виселицу», и ещё раз и ещё) — всё это необходимый балаганный антураж для главного лица, отлично исполняющего традиционную роль Государя — смешение крайней жестокости с крайним же великодушием, но ещё более захватывающего в другой роли — в собственной шкуре царственного вора, художника своей страшной и занимательной жизни. Для него главный спектакль впереди, и виселицы, сопровождающие шествие самозванца, ведут нас туда, к завершающему акту трагедии. Едва начав восхождение, самозванец знает финал и идёт к нему, не колеблясь, как к обязательной в сюжете развязке, к своему последнему зрелищу.