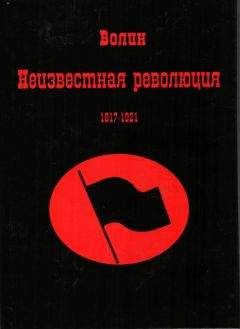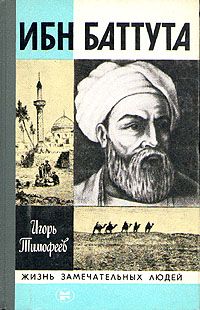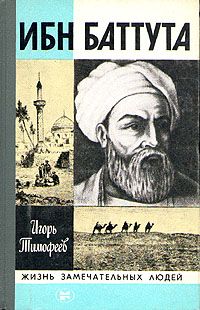А. Хабутдинов - Институты российского мусульманского сообщества в Волго-Уральском регионе

Помощь проекту
Институты российского мусульманского сообщества в Волго-Уральском регионе читать книгу онлайн
До сих пор дискуссионным является вопрос о первом инициаторе избрания муфтия ОМДС. Хронологически наиболее ранним из изданных является проект сенатора И. В. Лопухина, посланный на имя императора Александра I из Симферополя 18 февраля 1803 г. В пункте третьем он предлагает «муфтия выбирать всему магометанскому обществу Таврическому через собрание в каждом городе мурз и депутатов от поселян каждой волости, которым и выбирать трех кандидатов, о коих с мнением свои общему губернского правительства представлять на утверждение Правительствующему Сенату; от сего же… подносить доклад и Вашему Императорскому Величеству»[99]. Здесь мы видим созыв всегубернского съезда, выбор трех кандидатов и утверждение Правительствующим Сенатом. За исключением последнего момента, что, возможно, отражает либерализм первых лет правления Александра I, мы фактически видим модель для проектов избрания муфтия ОМДС, включая заседание Голяма Шурасы при ОМДС в апреле 1905 г. Эта модель предполагает созыв общего съезда, избрание трех кандидатов и право окончательного решения за имперским центром. В свою очередь, 20 сентября 1805 г. таврический гражданский губернатор Д. Б. Мертваго, принимавший участие в создании ОМДС, предлагал вариант отдельных выборов по две кандидатуры от городов и уездов. При этом начальник губернии сам выбирал из них трех кандидатов для представления министру внутренних дел с целью утверждения императором[100].
В итоге мусульманское «духовенство» ставилось под контроль государства, полностью определявшего его кадровый состав. Если учесть, что в России уже существовала свобода вероисповедания для лиц, официально зарегистрированных как мусульмане, то этот указ устанавливал механизм надзора за духовными лицами, при этом основное внимание уделялось их лояльности Российскому государству («люди, в верности надежные…»). Наместник (генерал-губернатор) Симбирской и Уфимской губерний барон О. А. Игельстром разработал Положение об ОМДС в 1789 г., где жестко определялся механизм получения «духовного чина» имама и ахуна. После избрания сельским обществом нужно было получить документ, удостоверяющий лояльность и указывающий о проживании в данном селении и губернии от уездного земского исправника или кантонного начальника, который отчитывался перед губернским правлением. С санкции последнего испытуемый мог держать экзамен в ОМДС также в присутствии губернских властей в лице двух верхней расправы (суда) заседателей. После экзамена его результаты утверждало наместническое правление. На уезд должно было приходиться не более двух ахунов. Причем под их наблюдением должны были находиться мечети, религиозные школы и их служители[101]. К 1800 г. в ОМДС подверглись экзамену 1921 человек, что фактически обозначало контроль над абсолютным большинством приходов. Только за 1791 г. экзаменам подверглись 789 человек, включая 7 ахунов, 2 помощников ахунов, 51 мухтасиба, 527 мулл (имамов), 9 мударрисов, 339 азанчеев (муэдзинов), 10 фаррашей и 15 муджавиров[102].
Таким образом, мы видим выстраивание трехуровневой системы: Собрание – ахун – имам. До создания ОМДС система фактически была двухуровневой: ахун – имам. Ранее ахуны сами взаимодействовали с представителями светских властей. Теперь эти функции взяло на себя ОМДС. Однако при отсутствии быстрой связи с Уфой, ахуны, такие как Ибрагим Худжаши в Казани, решали вопросы шариатского права в случае конфликтных ситуаций в сфере семейного права: брак, развод, раздел имущества. Они фактически выполняли функции апелляционной инстанции. По этой причине многие имамы стремились занять этот пост, что вело к росту численности ахунов. Если к 1788 г. мы можем говорить о 4 ахунах для всей Оренбургской губернии, то в 1851 г. их было уже 25 человек. Попытка придать законодательный статус должности ахуна как окончательной инстанции в рассмотрении судебных дел в вопросах семейного права по проекту «Правил о магометанских супружеских делах» потерпела неудачу. Характерно, что 28 марта 1824 г. проект поддержали два ключевых имама края: оренбургский ахун Габдессалям б. Габдеррахим[103] и выдающийся имам и мударрис 1-го прихода Каргалы Габдуррахман (Абдрахман) б. Мухаммедшариф[104]. Однако, если Таврическое Магометанское духовное собрание одобрило проект, то муфтий ОМДС Мухаммеджан б. Хусаинов отказал в праве своим заседателям-казыям обсуждать его[105]. Он прекрасно понимал, что дело сводится к сужению полномочий самого ОМДС, но не хотел конфликтовать с могущественным министром. Сам проект «Правил о магометанских супружеских делах» был предложен Министерством духовных дел и народного просвещения. Для понимания причин провала проекта нам придется вкратце остановиться на биографии министра – Александра Николаевича Голицына. В 1810 г. он стал главноуправляющим иностранными исповеданиями, в 1816 г. – министром народного просвещения. После того как в 1817 г. ведомства духовных дел и народного просвещения были объединены в одно министерство – Министерство духовных дел и народного просвещения, – А. Н. Голицын стал во главе последнего. Такое положение он занимал до мая 1824 г., когда был смещен в ходе придворных интриг. 15 мая 1825 г. оренбургский гражданский губернатор Р. В. Нелидов указал на то, что «магометанские чиновники, получив новую степень власти, обратятся не на пользу, а к всяческому гонению своей паствы». Р. В. Нелидов предложил рассматривать все брачные и семейные споры в гражданских судах. Однако до Судебной реформы 1864 г. это было невозможно осуществить практически. Протест оренбургского гражданского губернатора можно понять в том смысле, что судебные функции ахуна фактически приближались к функциям епископа. В 1847 г. ОМДС уведомляло МВД, что функция ахуна сводится к рассмотрению семейных тяжб[106]. При этом, если контакты с православным духовенством были налажены, то механизм взаимодействия ахуна и губернатора отсутствовал. Только в Уфе и только муфтии входили в состав общегубернских органов.
21 сентября 1828 г. был принят Сенатский Указ «О введении к употреблении метрических книгах по Оренбургскому духовному магометанскому собранию»[107], где подтверждалась компетенция ОМДС по вопросам семейного права, включая фиксирование рождений и смертей и условий брака. Один экземпляр метрических книг оставался в мечети, а один посылался в ОМДС, так что светские власти получили реальную возможность контролировать ситуацию на местах[108]. Однако вместо вмешательства в повседневную жизнь они предпочли осуществлять контроль через правление ОМДС, а не путем передачи его ахунам на местах. Характерно, что тот же оренбургский ахун Габдессалям б. Габдеррахим проводил политику централизации, став с 1825 г. муфтием ОМДС.
До конца непонятна роль мухтасибов, однако, по всей видимости, вначале именно они выполняли функцию контролеров за действиями имамов на местах. По мере роста числа ахунов специфика их функций становилась все менее определенной. При этом ахуны все больше сосредоточивались в городах. В 1851 г. в Оренбургской губернии было 25 ахунов, в 1855 г. – 26 мухтасибов. По мере роста числа ахунов здесь в 1868 г. остался только 1 мухтасиб[109]. При этом формально к ахунам предъявлялись более высокие требования с точки зрения образованности.
Духовенство башкирских даруг с 1798 г. оказалось фактически под полным контролем кантонных начальников. В соответствии с именным указом Оренбургскому военному губернатору барону О. А. Игельстрому от 10 апреля 1798 г. к материальному обеспечению служащих на Оренбургской линии привлекалось все духовенство из башкир, кроме «только одних мулл, которые по духовному своему званию при мечетях службу свою отправляют». Одиннадцатый пункт инструкции «Ордер, данный башкирским и мещеряцким кантонным начальникам» резко ограничивал численность духовенства и ставил его назначение под полный контроль кантонных начальников. По инструкции отпуск любого подчиненного вовне зоны кантонов осуществлялся только «с позволения главного военного начальника»[110].
Такой же принцип двух ключей: со стороны как ОМДС, так и наместнического правления был намечен в Положении об ОМДС при строительстве мечетей. Причем, как правило, при 100 дворах должна была находиться 1 мечеть[111]. Контроль ОМДС распространялся не только на мечети, но и на мектебы и медресе. Поскольку у властей отсутствовали реальные инструменты для контроля, то провозглашался принцип существования учебных заведений только при мечетях. Соответственно преподаватели должны были сдавать экзамен при ОМДС. При этом ОМДС должно было составлять ежемесячные списки учащихся и представлять один экземпляр списка губернатору и один – в Приказ общественного призрения. Причем открытие школ должно было происходить в разрешительном порядке, вначале при получении санкции ОМДС, затем при представлении наместническому правлению[112]. Такой контроль над школами был невозможен в тот период чисто технически. Принцип детального контроля над контингентом преподавателей и учащихся, предложенный в Положении об ОМДС, стал реальным в начале XX в.[113]