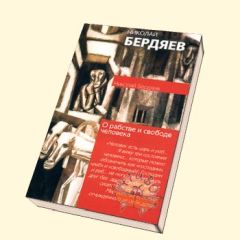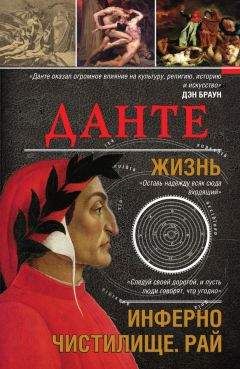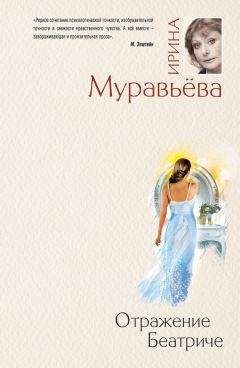Кирсти Эконен - Творец, субъект, женщина: Стратегии женского письма в русском символизме
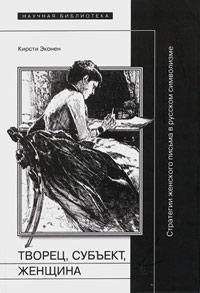
Помощь проекту
Творец, субъект, женщина: Стратегии женского письма в русском символизме читать книгу онлайн
«Sanctus amor» показывает, что Петровская не продолжала традицию символизации женщин в качестве эстетических или философских концептов.
352
Некоторые персонажи (хромой генерал, образ фрау Шварц, высокая женщина и гимназист) саймских рассказов характеризуют данное место не с положительной точки зрения.
353
М. Михайлова (Михайлова 1999-б, 230, 232) говорит об иронии и сарказме рецензий Петровской-критика.
354
См. в работе (Петровский 1979, 233–235) о литературной встрече Петровской и А. Толстого на страницах того же альманаха.
355
Стихотворение «Юному поэту» (Брюсов 1973–1975, т. 1, 99).
356
Совпадение отдельных мыслей Артура Линдау и В. Брюсова видно также в некоторых письмах Брюсова к Петровской, см. коллекцию отрывков в ст. Е. Тырышкиной «Жизнь в пространстве декаданса» (Тырышкина 2002-б, 137).
357
Об этом шла речь в 5-й главе.
358
Вместе с «Певучим ослом» в число сатирических воспроизведений символистских эстетических концепций входит и рассказ «Голова медузы», законченный уже в 1907 году (как полагает А. В. Лавров; см.: Лавров 1991, 188), но увидевший свет лишь в 1918-м в сб. «Нет!». См. ст. А. Лаврова (1991) «Блоковская „Незнакомка“ в рассказе Л. Д. Зиновьевой-Аннибал» (Лавров 1991).
359
Влияние Иванова еще явно заметно в вышедшей в 1904 году драме «Кольца». По сравнению с повестью «Тридцать три урода» драма «Кольца» выделяется как следующая всем символистским канонам. Пародийности и преувеличения в ней нет.
360
В дальнейшем рассказчица обозначается как «она».
361
Текст не дает ответа на вопрос о том, почему художников было именно тридцать три. Можно полагать, что число три — важнейшее для символистов число, как показано в главе о Л. Вилькиной, — утрирует символистскую концепцию о синтетичности и преодолении дуализма. Число 33 ассоциируется с проблематикой Боговоплощения, так как воплощенный в человеческое тело Бог — Христос — дожил, по преданию, до возраста тридцати трех лет. Можно также указать на стихотворение Иванова «Veneris Fumae», напечатанное в первом номере «Весов» 1907 года, которое начинается словами «Триста тридцать три соблазна…». Еще можно заметить, что фонетически из числа 33 образуется каламбур: при многократном повторении числа «тридцать-три-царицы-тридцать-три-ца-ри…» получается слово «царицы» (а не уроды!).
362
Отрицательная критическая оценка повести объясняется тем, что описание эротических отношений двух женщин было для современников «чрезмерным», в то время как для некоторых критиков (литературоведов феминистского направления) нашего времени оно — «слишком мало»: лесбиянство нельзя интерпретировать как женскую стратегию, так как (это показывает Д. Бургин) тема лесбийской любви следует конвенциям французского декаданса (об этом см. ниже в данной главе). Из этого исследовательница делает необоснованный вывод, что повесть является мизогинической и критической по отношению к лесбиянству (Бургин 1993, 183–184).
363
Я благодарна Г. Обатнину, предоставившему мне возможность пользоваться своей неопубликованной работой «Заметки о повести „Тридцать три урода“».
364
Дневниковые записи М. Кузмина (Кузмин 2000, 230, 210, 483) лета и ранней осени 1906 года рассказывают о том, что в период написания повести на «башне» велись дискуссии на тему гомосексуальности и Эроса. Кузмин также отмечает разочарование Зиновьевой-Аннибал в союзе троих в это время. К числу автобиографических факторов возникновения повести относится также организованное автором женское объединение «Фиас» (см. гл. 5). Тема написания портрета в повести имеет отношение к факту биографии автора: в конце 1906 года М Сабашникова начала рисовать портрет Л. Зиновьевой-Аннибал (см.: Сабашникова 1993, 155 и Кузмин 2000, 514).
Многочисленные ассоциации повести с биографией автора, создание повести за короткий промежуток времени привели к некой тематической сумбурности повествования. Повесть производит впечатление, будто написана на эмоциональном подъеме без последующего рассудочного, аналитического редактирования текста. В этом смысле история возникновения повести помогает объяснить богатство тем и ассоциаций, которые, однако, не формируют логической и цельной структуры (в плане темы и сюжета).
365
В исследовательской литературе повесть часто рассматривается в свете идей и практических попыток Зиновьевой-Аннибал и Иванова расширить свой брак и сформировать т. н. союз троих, который я рассматривала в главе о жизнетворчестве. М. Михайлова, например, утверждает, что «[a]lthough the plot focuses on a love affair between two women, it was dedicated to Viacheslav Ivanov, and was aimed at him personally; it was an attempt to create a dialogue and explain to him where the efforts to create a ’triple union’ might lead…» (Mihailova 1996, 149). О тройственных союзах см. также: Богомолов 1999, 241–245; Matich 1994, Михайлова 1993, 140; Никольская 1988.
366
Из «башенных» дискуссий о значении однополой любви для творчества можно упомянуть, например, доклад М. Волошина «Пути Эроса» (см.: Лавров 2006).
367
Баркер (Баркер 2003) провела сопоставительный анализ «Крыльев» Кузмина и «Тридцати трех уродов». По ее утверждению, произведения различаются тем, что роман Кузмина, философский трактат в художественной форме, провозглашает превосходство однополой любви, а повесть Зиновьевой-Аннибал представляет лесбийские отношения не как идеальные, а как несовершенные и трагичные. Эстетизму и гедонизму Кузмина Баркер (Баркер 2003, 117) противопоставляет нравственность и «железный аскетизм в духе» Зиновьевой-Аннибал. Она приходит к выводу, что Кузмина и Зиновьеву-Аннибал разделяют не проблематичные личные связи (см.: Никольская 1988, 129–130), а серьезные и содержательные расхождения эстетического и мировоззренческого порядка (Баркер 2003, 124). См. также статью Дж. Малмстада «Двойничество и любовный треугольник: поэтический миф Кузмина и его пушкинская проекция» (Studies in the Life and Works of Mihail Kuzmin, Wiener Slawistischer Almanach. 1989. Bd. 24), а также работу: Malmtad 1978.
368
Подобно художественному дневнику повести, собственный дневник Зиновьевой-Аннибал содержит краткие записи: их содержание — смена настроений, незначительные повседневные события, которые становятся символами чего-то более значительного. В данном отрывке внимание обращается на зеркало, которое служит средством самоконструирования автора дневника. Ср., например, записи от 7 и 8 октября 1894 года: «Но сегодня мне весело, и я все шепчу: полно, так ли это? Я села причесывать волосы и, встречая свой взгляд в моем маленьком зеркале, я вижу, что он веселый (…) Утро было такое грустное. Что за перемены неожиданные, нелогичные. Я читала „Triomfo della Morte“. Какая правда. Отчего такие ужасные вещи находят такой сильный отклик в моей душе. Разве моя душа больна?» (Зиновьева-Аннибал 2007, 144).
369
Иванов, например, рассматривает повесть в контексте платоновского «Пира», но, как и в рецензии на повесть Соловьевой «Небывалая» (см. гл. 8, см. также: Cooper 1997, 190), не замечает пародической стороны произведения. Рассматривая повесть как речь «новой Диотимы», Иванов говорит об Афродите народной и Афродите небесной. О них в «Пире» говорит не Диотима, а Павзий (Платон 1904, 10–11), и взгляды Диотимы и Павзия отличаются друг от друга. А. Шишкин (Шишкин 1998, 318) повторяет мнение Иванова о том, что в повести говорит «новая Диотима» об Эросе, причем ее учение, как можно полагать, по мнению Шишкина, согласуется с ивановским мнением.
370
Отражение связано также с темой конструирования идентичности. В философии Ж. Лакана фигурирует мотив зеркала как средства становления субъекта. В данной связи нет возможности углубиться в изучение темы зеркального отражения персонажей в глазах друг друга, в повести акцентированной.
371
В связи со стратегией противостояния доминирующему дискурсу можно указать на высказывание Ж. Дерриды (Derrida 1979) о том, что условием знака является повторяемость, причем каждый повтор может его изменить. Повторяя знак, можно вписаться в дискурс, но, повторяя его иначе, можно также отделиться, «выписаться» из него.
372
Е. Баркер (Баркер 2003, 65–108) рассматривает «Тридцать три урода» в свете философии любви В. Соловьева и видит в повести разрушение соловьевской мистико-эротической утопии. Ее исследование основывается во многом на рукописном предисловии В. Иванова, опубликованном Г. Обатниным (Баркер 2003, 72). Поэтому кругозор автора ограничен: указывая на реминисценции и аллюзии на соловьевскую концепцию любви и на софийную символику (Баркер 2003, 74), автор не замечает, что, на самом деле, то, что она читает в соловьевском ключе, является принадлежностью общемодернистского дискурса. Особенно наглядно это проявляется в ее рассуждении о полярности женщин, где она использует понятие двух соловьевских ипостасей Вечной Женственности, Софии и Мировой души, хотя подобная полярность является характерной для репрезентации женщин в модернистском дискурсе в целом.