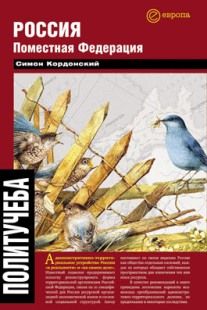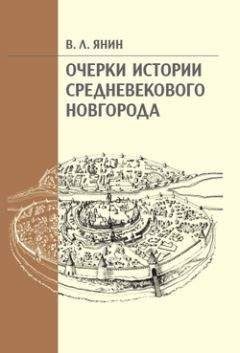Марина Черкасова - Северная Русь: история сурового края ХIII-ХVII вв.
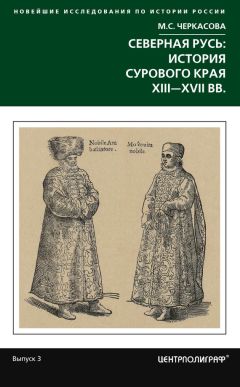
Помощь проекту
Северная Русь: история сурового края ХIII-ХVII вв. читать книгу онлайн
В общерусском походе на Новгород с вел. кн. Дми трием Ивановичем в 1386 г. приняли участие три рати – белозерская, вологодская и устюжская. Значит, в этих землях были сформированы военные подразделения, предводительствуемые московскими воеводами. В начале 1390-х годов на Вологде утвердились бояре московского вел. кн. Василия I Глеб Семёнович, Семён Жданов и Михаил Лушин. Ещё одно важное известие относится к 1397 г., когда в Двинской уставной грамоте Василия I впервые были отмечены устюжские и вологодские наместники. Им поручался сбор таможенных пошлин в великокняжескую казну на обширном Сухонском речном пути. Следующее упоминание великокняжеских наместников на Вологде (вкупе с бохтюжскими волостелями) имеется в жалованной грамоте Василия II Дионисиево-Глушицкому монастырю 1448 г.
О проникновении московского влияния и власти в ближайшие вологодские окрестности свидетельствует духовная грамота вел. кн. Дмитрия Донского 1389 г.: волости Сяму и Тошню он передавал своему младшему сыну Петру. В духовной Василия I волость Ухтюшка называлась его «куплей», упоминались также Брюхова слободка, «примыслы и прикупы» на Вологде и Тошне. Усилению московского влияния способствовало появление на Вологде землевладения великокняжеских бояр, например, Фёдора Свибла, сёла которого в Отводном на Сяме фигурировали в первом варианте духовной Василия I. Ряд московских бояр и воевод (Г. М. Перхушков, И. И. Салтык-Травин, И. Д. Руно) имели сёла в Белозерской и Вологодской округе (Рунова слободка, Ивановское в «Остром конце», Спасское в Водожской волости).
О важном значении Вологды для Москвы в период феодальной (или династической, как её ныне именуют) войны свидетельствует присутствие здесь великокняжеских воевод Ф. М. Челяднина, В. М. Шеи, А. Ф. Голтяева, В. А. Зворыкина, Мих. Чепеткина и «многих дворян». Их взял в плен, отобрав имущество, кн. Василий Косой во время своего нападения на Вологду в 1435 г. К концу 1434 г. (не позднее января 1435 г.) В. Д. Назаров предположительно относит выдачу Василием II Кирилло-Белозерскому монастырю грамоты на городской двор в Вологде. А летом-осенью последовала, как считает учёный, выдача особой грамоты Василием II городской общине Вологды: в документе тот напрямую обращался «к горожаном вологжаном и сотским» относительно сбора податей с городского двора Кирилло-Белозерского монастыря наравне с остальными тяглецами. В одной статье В. Д. Назарова отмечено, что, включая кирилловский двор в общее тягло с вологжанами, Василий II демонстрировал явную заинтересованность в их поддержке как целостной группой. В преддверии новгородско-московского размежевания земель в районе Вологды такая поддержка приобретала для Василия II дополнительную мотивацию.
В сентябре-октябре 1446 г. на короткое время Вологда как удел Московского великого княжества (полученный от великого на тот момент князя Дмитрия Юрьевича Шемяки) стала местом пребывания ослеплённого Василия II с женой вел. кнг. Марией Ярославной и детьми – княжичем Иваном (будущим вел. кн. Иваном III) и Юрием. Происходит массовый отъезд к нему сюда бояр и детей боярских.
В «Повести об ослеплении Василия II» говорится, что по прибытии на Вологду тот побыл там немного и пошёл со всеми своими людьми в Кириллов монастырь, «как бы для того, чтобы накормить тамошнюю братию и дать милостыню, нельзя ведь такому великому государю оставаться в заточении в столь дальней и пустой земле». В Сказании Паисия Ярославова о Спасо-Каменном монастыре сообщается, что Василий II посетил и эту островную обитель, получив благословение от игумена Евфимия. Кирилловский игумен Трифон со старцами сняли с Василия II данную Шемяке (в Угличе) клятву не искать под ним великокняжеского стола, взяв этот грех для отмаливания в монастыре, благословив на продолжение борьбы. Социально-политическая поддержка, оказанная тогда ему вологодско-белозерскими монастырями, способствовала успеху московского князя на заключительном этапе феодальной войны, а сами монастыри вывела на общерусский уровень авторитета. Кирилловский игумен Трифон вскоре (зимой 1447 г.) стал архимандритом придворного Спасского монастыря, затем в завещании Василия II 1461/62 г. назван его духовным отцом[1], а позднее займёт кафедру ростовского архиепископа. Уже во второй половине 1447 – начале 1448 г. общерусской канонизации удостоился Кирилл Белозерский. Святым он назван в междукняжеском докончании Василия II и Ивана Андреевича Можайского 31 марта – 6 апреля 1448 г. По повелению Василия II известный агиограф Пахомий Логофет (Серб) был послан в Кириллову обитель для составления жития преп. Кирилла. Ферапонтовский игумен Мартиниан в 1448–1456 гг. возглавит Троице-Сергиев монастырь. Старец Спасо-Каменного монастыря Паисий Ярославов позднее (в 1478–1481) также станет троицким игуменом, крестившим будущего великого князя Василия III, и кандидатом на митрополичий стол в 1484 г.
Наместники и волостели в конце XV–XVI в.
Наиболее раннее свидетельство наместничьего управления в Вологодском уезде содержится в двух грамотах вел. кн. Ивана III 1484 г.: 1) жалованной несудимой Злобе Васильеву сыну Львову на деревни в Окологородье и вол. Маслене от сентября и 2) жалованной игумену Спасо-Рабангского монастыря Феогносту от 22 декабря. Их общей чертой было установление подсудности населения светской и монастырской вотчин наместникам по высшим уголовным преступлениям – душегубству, разбою и татьбе с поличным. По своей территориальной направленности вторая грамота относилась к Заозерью, конкретно землям по Рабанге (Верхней Сухоне) – Борковской и части Засодимской волости. Вологодские наместники и их тиуны, согласно этому документу, отправляли суд над городскими людьми и участвовали вместе с игуменом или его приказчиком в «сместном суде» по делам, касающимся конфликтов монастырских крестьян с городскими людьми. Над монастырским настоятелем и его приказчиком устанавливалась юрисдикция великого князя или его «боярина введённого», этой ключевой фигуры в организации боярского суда средневековой Руси. О сохранении установленных в 1484 г. порядков для монастыря свидетельствуют последующие подписи этой грамоты – Василием III в феврале 1509 г., вел. кн. Иваном Васильевичем в феврале 1534 г. и им же в качестве царя в мае 1551 г.
В отдельные годы наместничье управление функционировало в Вологде на основе двойного представительства: например, в 1489 г. известны одновременно два наместника – Григорий Васильевич Поплева-Морозов и Иван Гаврилович Заболоцкий. Полагаем, что этому соответствовало и двойное тиунство, поскольку в 1495 г. названы два городских тиуна – Обрезок Паздерин и Злоба Воронцов, выступавшие в качестве судей по земельным делам, однако для данного года персонально неизвестны сами вологодские наместники. Как распределялись полномочия между парами наместников и тиунов, трудно сказать из-за крайнего лаконизма источников. Возможно, разделение между ними было территориальным – в отношении города (по половинам) и формирующихся частей уезда (пригородные волости и более отдалённое Заозерье), имевших свои исторически обусловленные особенности.
Помимо наместников, властные полномочия в отношении ряда территорий Вологодского уезда имели и должностные лица дворцовой администрации, причём их представительство тоже нередко было двойным. Два дворцовых дьяка – Григорий Захарьин сын Микулина и Обрюта Михайлов сын Мишурина – известны в 1530 г. в качестве послухов на земельном обмене Кириллова монастыря в вол. Тошне. Агенты низового аппарата Дворца могли действовать согласованно с выборными представителями города, и прерогативы их выходили за пределы собственно Вологды. Вологодский дворский Иосиф Иванов совместно с городским сотским М. И. Дюдковым и земским дьяком Т. Белевановым фигурируют в одной купчей грамоте Спасо-Прилуцкого монастыря 1531/32 г. На основе подробного изучения указных грамот сотским В. А. Кучкин отметил, что власть городских сотских могла распространяться и на население ближайшей к городу сельской округи.
При Василии III в системе общегосударственного управления заметно возрастает значение института дворецких, среди которых различались так называемые большие (Приказа Большого дворца) и областные (территориальных дворцов – Новгородского, Тверского, Дмитровского, Угличского, Рязанского). Два последних дворецких – угличский и рязанский – по местническому счёту своих судей были значительно скромнее двух первых. Частота упоминания и больших, и областных дворецких в актовом материале по Вологде объясняется плотной насыщенностью и Белозерья, и Вологодчины дворцовым землевладением, а также сравнительно неплохой сохранностью, как считает М. М. Кром, архивов вологодских монастырей. Наряду с контролем над дворцовыми землями и живущим на них населением (как специализированным – сокольниками, бобровниками, бортниками, так и крестьянским), дворецкие могли исполнять некоторые общегосударственные функции. Они выдавали грамоты монастырям, что ставило церковно-монастырское землевладение под контроль государства. Полномочия дворецкого боярина Василия Андреевича Челяднина по его грамотам Спасо-Прилуцкому монастырю известны с 1509/10 г. Его финансовые прерогативы отразились в оброчной грамоте 1512 г. на мельничное место на посаде «по конец Еремеевской слободки» (здесь была церковь во имя пророка Иеремии).